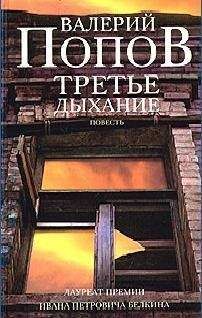Павел Вежинов - Вдали от берегов
Когда он огляделся вокруг, разговор уже угас. Солнце закатилось так же быстро, как и взошло. Оно нависло над разгоревшейся кромкой моря, немного постояло там и погрузилось за горизонт. Все как зачарованные смотрели на исчезающий за морской гладью огненный шар, огромный, близкий и печальный в своем угасании. Наконец последний краешек его погрузился в море, и все померкло. Лишь багрянец и тонкая, алая как кровь полоска еще виднелась вдали.
Но вот багрянец стал распускаться, как огромный мак. Он медленно расплывался по небу, пожаром пылая над горизонтом. Вскоре весь запад заплыл оранжевыми и красными тонами, которые с каждой минутой ширились, застилая небо. Но странно, казалось, что солнце не заходит, а вот-вот снова вынырнет из-за моря, еще более багровое, яркое и могучее. Море оживилось, оно трепетало, играло красками, сияло пестрыми бликами, бурлило. И вдруг в какой-то неуловимый миг стало тускнеть. На западе появилась темная холодная полоса. Небо над ней тоже потемнело, стало зеленоватым, а затем прозрачно-синим. Горизонт словно отступил назад, обнажив ясную даль, нежную и чистую, как свежее весеннее утро. Синева разливалась по небу, оттесняя пылающий оранжевый пожар к северу и югу. Исчезали сверкающие блики. Море становилось спокойным, темным и равнодушным.
Когда совсем стемнело, студент подсел к далматинцу.
— Милутин, а мы, пожалуй, промахнулись с бензином, — чуть слышно сказал он.
Далматинец поглядел на него сквозь темноту.
— Почему промахнулись?
— Не надо было расходовать его до последней капли.
— Почему? — удивился далматинец. — Чем дальше от них, тем лучше.
— Так-то оно так, но…
— Что но?
— Надо было немного оставить на всякий случай.
— На какой это случай? — нетерпеливо спросил далматинец.
— Какой! Представь себе, что за нами погонится военный катер… Тогда мы завели бы мотор и высадились на берег…
Далматинец почувствовал, как в груди у него поднимается глухое раздражение.
— Вечно ты так! — резко перебил он студента.
— Как это так?
— Задним умом крепок.
— Только сейчас пришло в голову, — виновато признался Крыстан. — Я подумал, а что если появится катер и станет отрезать нас от берега? Мы могли бы успеть удрать…
— Молчи! — сказал далматинец. — Нечего теперь толковать об этом! Только растравлять себя!
Молодой человек ничего не ответил. Ночной мрак показался ему еще более густым, безмолвным и гнетущим.
4Вацлав встал на вахту в девять часов. В лодке было тихо, все неподвижно сидели на своих местах. Кажется, никто не спал, но все молчали, занятые своими мыслями. Только на корме слышалось тихое покашливание и вспыхивал слабый огонек: капитан докуривал свою последнюю сигарету.
В непроглядной ночи еще ярче светили звезды. Вацлав не знал такого неба. Над его родиной оно никогда не бывало таким черным и никогда на нем так ярко не светили звезды. Порой казалось, что это совсем другое небо, далекое и незнакомое, и звезды на нем совсем другие. Но ведь это не так! Вот Полярная звезда, а вот Большая и Малая Медведицы — единственные известные ему созвездия. Как непривычно то, что можно разом окинуть взором весь громадный звездный купол, накрывший море, словно исполинская чаша колокола. На родине ему не приходилось видеть весь небосвод. Меж крышами зданий проглядывали лишь куски неба. В отцовской деревне, в Словакии, весь небосвод был изрезан темными зубцами гор. А в Праге, где он жил последние шесть лет, неба совсем не видно, потому что оно растворяется бесчисленными огнями города: мощными электрическими фонарями, неоновыми рекламами, вздымающимися ввысь, ярко освещенными зданиями. Чистое небо он видел из окна своей квартирки в старой части города, но и там оно выглядело бледным, а звезды тусклыми. Только в ясные ночи они, словно ожив, сверкали ярче.
Вацлав любил небо и звезды. В поздний зимний вечер он часто останавливался на каком-нибудь мосту через Влтаву и долго стоял, глядя вверх.
Однажды вечером они с Ириной остановились на мосту. Он по привычке смотрел на звезды, но на этот раз не видел их. Он не чувствовал зимней стужи, ибо на сердце было еще холодней.
Ирина глядела на реку, на отраженные в воде огни набережной и молчала. Молчал и Вацлав. Над ними мерцали звезды, внизу дрожали огни города. Было красиво и грустно. Тишина и безлюдье навевали печаль безысходности.
«Пойдем же!» — сказала Ирина.
Сердце его заныло. Он даже не почувствовал, что рука от мороза прилипла к чугунным перилам моста, а ноги окоченели, стали непослушными. Он сунул руку в карман и молча побрел дальше под тусклым, желтым светом фонарей.
Но лучше не вспоминать об этом. Не надо думать о том, что умерло, что кануло в прошлое. Нет, Ирина, счастье не там, где ты ищешь его! Там лишь мишурный блеск и пустота, там стынут сердца, как стыли наши руки в ту глухую морозную ночь.
Не вспоминать! Именно сейчас нельзя думать об этом!
Но мысли и воспоминания одолевали.
Ему было не по средствам водить Ирину в бары. Да и что делать в барах человеку, который работает на революцию? Он не сразу понял, что ее снедают жгучие желания, сильные и властные, как любовь. Они зародились в полумраке зрительных залов кино, когда по лицам пробегают светлые отражения от экрана. «Эти бледные, пляшущие, колдовские пятна, — думал Вацлав, — завораживают ум и сердце». Иногда он откидывался назад на своем дешевом, скрипучем стуле и вглядывался в лицо, освещенное зыбкими бликами экрана. Это было лицо заколдованной красавицы из сказки — далекое и чужое, с холодным, отсутствующим взглядом. Ничего своего не оставалось на нем, оно, как неживое полотно, отражало лишь чужие мысли, чужие чувства.
Когда они выходили из кино, он брал ее под руку. Но рука ее была такой же чужой, как мысли. Перед ее глазами все еще витали тени экрана: фешенебельные бары с полированными колоннами, отделанными никелем и серебром, красивые женщины с обнаженными, ослепительными плечами, стройные мужчины с лоснящимися прическами, неторопливо пьющие из своих бокалов. Душа ее долго не могла вырваться из-под власти этих призрачных видений, а на лице сохранялось отсутствующее и напряженное выражение.
Пройдя несколько улиц, она зябко поводила плечами, клала руку в карман его плаща и улыбалась жалкой, страдальческой улыбкой. Все в ней рвалось к тому миру, который он ненавидел и стремился похоронить.
Но не надо думать об этом! Зачем бередить старую рану? Как бы мала она ни была, она все еще кровоточит.
Не вспоминай, Вацлав, о прошлом, ты на посту, у тебя есть долг! Далматинец наказал ничего не оставлять без внимания — ни малейшего шороха, ни движения. Будь начеку, смотри вокруг, оглядывай горизонт — не появится ли где огонек, особенно там, откуда может прийти опасность!
Но было тихо — все спали. Лодка чуть покачивалась, но Вацлаву казалось, что это колышется небо. И было немного жутко смотреть, как оно покачивается над головой, словно огромный онемевший колокол. Какими крохотными и ничтожными, какими затерянными и беззащитными выглядели они под этим необъятным небом, среди обступившего со всех сторон гнетущего мрака, безмолвного и непроглядного!
Вацлаву довелось побывать в баре только раз в жизни, в канун отъезда из Праги. К тому времени он расстался с Ириной и чувствовал себя совсем одиноким. Но одиночество не пугало: его душа всегда была полна. На этот раз — скорбью, особенно сильной в поздние вечерние часы.
Днем его отвлекали заботы. Он поздно вставал и сразу же отправлялся в редакцию, где вел литературную страницу. Работы было по горло. Каждый день у него на столе скапливались кипы стихов и рассказов; он должен был просматривать их, а затем беседовать с авторами. Иногда в газете появлялись и его стихи. Это были спокойные, умные, гладкие стихи; в них чувствовалось настроение. Сюжеты не были значительными, но поэтичность говорила больше, чем слова. Товарищам они не нравились. «В стихах нет огня, — говорили они. — В них нет призыва! У нас надо так писать, чтобы стихи звучали, как удар по лицу спящего под наркозом…»
Так они говорили, но сами писали другие стихи. Превозносили Маяковского, а писали, как Есенин.
Вацлав не любил ни Маяковского, ни Есенина. Его любимым поэтом был Уолт Уитмен. Он пытался подражать ему, но безуспешно. Эти попытки он не решался печатать, как и стихи, посвященные Ирине.
Он уезжал из Праги в середине октября. Осень выдалась теплая, хотя и дождливая. Город сиял чистотой, словно его вымыли щеткой с мылом. На мокрых старых улицах квартала, в котором он жил, приятно пахло опавшими листьями. Весь город был залит каким-то серым, рассеянным светом, отраженным от затянутого облаками неба и мокрых фасадов зданий. Воздух пропитался мелкой водяной пылью, падающей с неба, — ни дождь, ни туман.
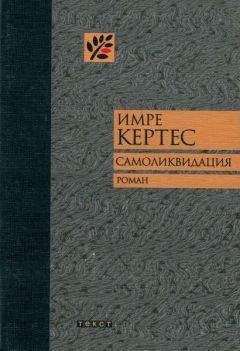
![Тяжелый дождь - [Тяжелый дождь]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)