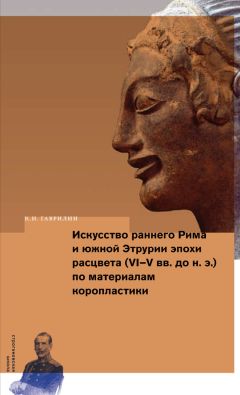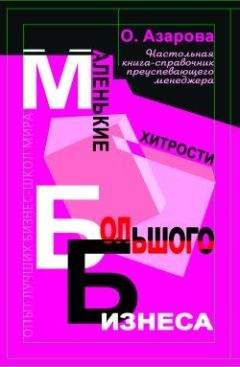Хуан Онетти - Короткая жизнь
— Почему вы не хотите, чтобы я объяснила? — спросила Кека. Теперь она сидела на кровати.
Я обернулся и посмотрел, как она ярится, твердо веря, что можно раз и навсегда определить невероятное.
— А мне все равно, — сказал я. — Зачем объяснять?
— Что вы хотите узнать? Вы же мне говорить не даете. Вы думали, я была тогда рада и могла делать что вздумается. Ну, смотрите, вы пришли, наврали, я вас слушала. Я подумала, вы особенный, может — псих. И сейчас, когда я стояла за креслом, я думала, вы это серьезно или спятили. Нет, вы поймите. Тогда мне нравилось вас слушать, так час и прошел, сами виноваты. Эрнесто божился, что убьет меня, если застанет с мужчиной. Смейтесь, я знаю, что это смешно. Я услышала, что он пришел, испугалась и сказала что сказала, потому что ужасно боялась. Вот и все, больше ничего и не было, бог свидетель. А теперь мне смешно, что я боялась. Выгнала я его, все и кончилось, а то никакой жизни нет. Вы не верите? Почему вы не хотите мне поверить?
Далекий и ленивый, как и всегда к концу дня, лифт постучал дверью и утих, словно предвещая рассвет. Воздух, не знающий ни жалости, ни времени, витал над моим телом, но в нем была впадина, которая поддерживала над краем кровати Кекин живот. Воздух напоминал мне о жалких словах и о простой, гнусной связи между женщиной и мужчиной, которую изображают в пространстве эти слова, неуклюже подчеркивая зависимость, взаимный эгоизм, мизерную жертву, расставание.
Она поднялась, пошла к столу и налила себе, а мне не предложила.
— Вы не верите, вы так и будете думать. Ах, все вы одинаковы, — кончила она с каким-то робким вызовом.
— Да неважно мне, — сказал я и сел прямо. — На свете есть вы и я, больше ничего.
— Миленький, — сказала Кека, обернувшись, взглянув на меня и облизнув губы. — Ну поверь ты мне.
— Закрой-ка лучше балкон.
Я видел, что она с сомнением взглянула на меня, посидела минуту с бокалом в руке, выпила залпом, сложила руки за спиной и никак не находила что сказать.
— Миленький, — повторила она, еще не двигаясь, а потом пошла к балкону, хлопая расстегнутой сандалией. Она как-то сжалась, не унижаясь, стала меньше, как всякая женщина, с которой нежны. Я услышал, как затихли и балконная дверь, и штора. Посмотрел на живот, на бедра, на лицо, за которым следил когда-то душным вечером, и увидел тот же профиль, тот же короткий вздернутый нос, те же тонкие губы.
— Да, — громко сказал я, поднимаясь.
Она неподвижно стояла у запертого балкона, пригнувшись, словно несла что-то тяжелое, и вслушиваясь в шорохи ночи, в историю мятых, блеклых птиц и веток, испещривших штору. Я снял пиджак и галстук, вернулся к столу, выпил. Раздеваясь, я насвистывал вальс, который она когда-то пела. Должно быть, она не слышала, как упали на пол мои ботинки, и не догадалась, что я кладу револьвер под подушку. Когда я снова встал и посмотрел на этажерку (я помню, Гертруда, как ты ненавидела концовки старых книг. Быть может, ты просто знала, что испугаешься под конец), Кека выпрямилась, повернулась ко мне с печальной улыбкой, и губы ее зашевелились, хотя она молчала. Она шагнула вперед — лицо ее изменилось, — наткнулась на стол, оперлась об него, все на меня глядя и тяжело дыша. Повела бедрами, обходя синеватый треугольник ковра, и подошла ко мне, протянув руки, словно ощупывая мглу.
— Миленький, — хрипло сказала она, становясь коленом на пачку из-под сигарет, тряхнула головой, словно слепая, попыталась улыбнуться, погладила толстыми пальцами свои косицы и принялась меня целовать.
XVIII
Разрыв
Я примирился с тем, что сценария не будет, и мне уже казалось смешным, что я хотел заработать таким образом. Теперь я знал, что повороты судьбы, которые я так холодно и четко замышлял для Элены, врача и мужа, никогда не произойдут и мы четверо не придем к развязке, поджидавшей нас в моем столе, порою — рядом с револьвером, порою — рядом с коробочкой, где лежали пули, среди зеленоватых стеклышек и старых гаек.
Да, ничего не вышло, но я не мог оставить в покое ни врача, ни Элену. Сотни раз я дал бы что угодно, только бы сейчас же отдаться вновь этому колдовству и, затаив дыхание, следить за нелепыми поступками, выдумками, хитростями, дурацкими ситуациями, которые повторялись и менялись без причины; смотреть, как мои герои уходят, приходят, гуляют, хотят чего-то, падают духом, и заворачивать все это вихрем, и жалеть их, и не любить, и убедиться, глядя им в глаза и слушая их речи, что они начинают понимать тщету своих забот.
В тот день Гертруда вернулась раньше меня и первая легла на кровать в излюбленной позе мертвеца. Снимая шляпу и входя в комнату, я думал, что это я и лежу, что я пролежал весь день тихо и неподвижно и мне лишь казалось, будто я ношусь по улицам, вхожу в конторы, вижу в окнах весну, которая гораздо красивей, чем та, другая, за дверью или под балконом моего дома. Гертруда улыбнулась мне и прикрыла глаза, словно прошлое наше не соприкасалось, и крупная женщина на кровати предстала передо мной внезапно из глубин, чья суть мне неведома.
— Хотела тебя соблазнить, — сказала она, отведя взор, и стала рассматривать ногти, на которые падал слабый, сочившийся с балкона свет. — А что ж? Только вот любить не могу. Ну никак. Пока тебя не было, я вспоминала, какой ты бываешь, когда голый, какие у тебя руки, как ты дышишь, и любила тебя. А как увижу твое лицо, все вспомню и пойму снова, что мы с тобой столько-то сотен дней, — не могу. Я твое лицо знаю. Подбородок у тебя и сильный, и слабый. Глаза ничего не говорят. Губы чувственные, а это неправда. Вы никогда ничего не даете мне — ни ты, ни твое лицо. Вот я и не стану тебя соблазнять.
— Понимаю, — сказал я, присев у стены, между Гертрудой и балконом, и вспоминая, что, если верить Штейну, старик меня скоро выгонит. — Да и на что тебе меня соблазнять?.. Не говоря о том, что это невозможно, соблазнить по-настоящему.
— Нет, — заупрямилась она. — Дело в том, что я тебя не люблю, не могу я тебя любить. А невозможно… почему же? Потому что мы спим вместе пять лет и знаем друг друга как облупленные? Если бы моя сестрица захотела тебя соблазнить, у нее бы это вышло. Почему? Потому что ей двадцать лет, и она с тобой не жила? Нет, правда, интересно узнать, как там у вас, мужчин, — всякая близость таинственна, если ты с женщиной еще не спал, или стоит вам узнать, что женщина бывала с другими, и тайна исчезнет? Само собой разумеется, после двадцати с кем-нибудь ты да была, иначе не выдержишь. Ладно, примем, что Ракель тебя не соблазнила. Кстати, ты никогда не хотел об этом говорить.
— Не соблазнила, — сказал я; за стеной звонил телефон, никто не подходил. Может, ушла, а может, лежит… — Да и как меня соблазнишь? Сейчас неважно, почему… вероятно, ты права. Но главное, мне кажется, в том, что мы уже не можем играть.
— Играть не можем? — переспросила Гертруда, приподнимаясь. — А я могу. Сейчас буду играть.
В слабом предвечернем свете я увидел мерцание платья, бус и колец.
— Ты выходила? — спросил я.
— Нет. Сидела дома весь день. Я думала, а нарядилась для тебя. Мне показалось, что я могу тебя соблазнить. Хуаничо, соблазнила я тебя хоть раз?
— Да, еще бы, душой и телом.
— А больше не могу?
— Мы играть не можем. Тогда ты не играла.
— Поначалу всегда играешь, а потом поймешь, что это серьезно. Нет, я тебя соблазнила, значит — опять соблазню.
Мне показалось, что она идет к балкону, но крупное темное тело согнулось и опустилось мне на колени. Гертруда нежно провела губами по моей щеке.
Там, за стеной, Кека вошла, напевая. Кто-то следовал за ней.
— Быть не может, чтобы ты не понял, — сказала Гертруда. — Я надела новое, шелковое платье. Наверное, ничего не вышло, раз я тебе это говорю.
— С чего мне грустить? — смеясь, сказала Кека, отделенная стеной от моего затылка. Безмятежный мужской голос затихал и звучал снова. Кто-то из них двоих сел на кровать.
— Да, Хуаничо, — прошептала Гертруда, кусая меня за ухо. — Я даже причесалась иначе. Часу в шестом я подумала, что надо тебя соблазнить, и решила не уходить из дому. Мы собирались встретиться с подругой, с Диной, я тебе говорила, ну и еще кое с кем.
— Не беспокойся, — сказала Кека. — Я такая-сякая, но с верой не шучу. Будет немножко денег, свечку поставлю.
Пока Гертруда нежно целовала меня (теперь — в подбородок и в шею), я представлял себе, как мужчина ждет, а Кека раздевается.
— Как девочка, — сказала Гертруда. — Вспомнила твое лицо и поняла: ничего ты мне никогда не дашь, и соблазнить я тебя не соблазню, и раньше, в Монтевидео, не соблазнила. Хоть раздави тебя, хоть сожми в руке, а ты не даешься.
— Я часов не считаю, — сказала Кека. — А все же надо будет поесть, и я бы хотела зайти к Толстухе, сто лет не видались.
— Ты не права, — сказал я Гертруде. — Честное слово, соблазнила. Телом и душой.