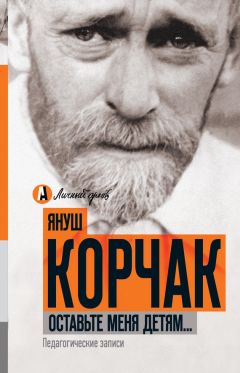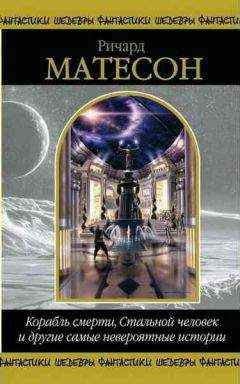Юрий Герт - Солнце и кошка
Открытия продолжались. Оказывается, ими был начинен чуть не каждый сантиметр карты, стоило только расшевелить память. Париж!.. Разве не по его улицам бродили мы с Гаврошем, кутая шеи дырявым шарфом?.. Афины! Тут жил когда-то юный Тесей, светлоликий победитель свирепого Минотавра!.. Багдад?.. Неужели он и вправду существует, сказочный, как волшебная птица Семург?..
На карте все смешалось, переплелось, соединилось в немыслимом соседстве. Это меня не смущало: Тесей отлично ладил с Гаврошем, Робин Гуд — с Карлом Бруннером...
Он был мой давний знакомец, Карл Бруннер, немецкий мальчик, немецкий пионер, который бесстрашно помогает рабочим-ротфронтовцам в борьбе с гитлеровскими штурмовиками. Он и прежде для меня был совершенно живой, с его аккуратным косым пробором, аккуратной челочкой над ясным лбом,— отважный немецкий мальчик из зачитанной, залистанной до ветхости, заслюнявленной сотнями нетерпеливых детских пальцев — славной книжки тридцатых годов. Теперь я мог точно указать на карте его местожительство: Берлин. И когда в самом сердце Европы я видел кружок, похожий на дырочку, пробитую и центре мишени, мне хотелось крикнуть: «Рот Фронт, Карл Бруннер! Рот Фронт!» И вскинуть руку, сжав пальцы в крепкий кулак. Мы видели, как это делают в кино, и сами тоже умели это делать.
Но была страна, где многие города мне были известны. Их имена рокотали, как гром в горах, а цветом напоминали спелый гранат, рассеченный взмахом ножа. Я отыскивал их на карте, повторял вслух: Барселона, Гранада, Сарагосса, Мадрид... И прослеживал путь кораблей, тех, что мы видели на ялтинском рейде, с испанскими детьми,— позади у них лежали Средиземное море, Дарданеллы, Босфор, позади были Франко, бомбы, самолеты с изломами свастики на крыльях — все, о чем рассказал мне отец и что называлось «войной в Испании»...
Карта, расстеленная у нас на полу, неожиданно приблизила ко мне эту войну. Корабли плыли оттуда, я слышал, две недели. Я измерял то же расстояние по карте — выходило не больше трех-четырех шагов.
Впрочем, дело не в одной, карте. Пожалуй, тем самым летом, когда у нас она появилась, погостить к нам приехала моя московская — по матери — тетушка. Ее имя рокотало почти на испанский манер:
— Дор-р-ра...
Она была похожа на девочку, если бы не большие, черные, остро и сухо блестевшие глаза, в которых нет-нет да и пролетало выражение какого-то тщательно скрываемого горького превосходства, как будто ей известно нечто такое, о чем другие и не догадываются. А в остальном она больше всего напоминала мне серьезную, немного насмешливую девочку, и причина была тут не в росте, даже совсем не в росте. Просто — за что бы она ни бралась, все получалось у нее как-то быстро, ловко, без натужливой взрослой озабоченности, легко, легкомысленно даже, сказал бы я, когда не поймешь — то ли делом занят человек, то ли забавляется себе в радость, играет... И все ему удается!
Мне запомнилось, как она. в какие-то полтора часа в обыкновенной кастрюльке, на обыкновенной электроплитке сварила вкуснейшее кизиловое варенье. И как она при этом, помешивая в кастрюльке одной рукой, другой переворачивала страницы какого-то романа, отрываясь от чтения лишь тогда, когда приходила пора снять пенку. Снимая пенку, она пела... Ярче всего запомнилось мне, как она пела.
Она пела — и расчесывала гребнем, бывало, свои густейшие волосы — казалось, по черным волнам гребла, ее фигурка то утопала в них целиком, то выныривала вновь. Или просто так, прохаживаясь из угла в угол по комнате, сложив руки на груди — ладошка к ладошке — она пела и уже не казалась такой маленькой, и обтянутый платьем горб над лопатками тоже как-то переставал замечаться.
Она пела арии (мне нравилось это слово!) из опер, только арии и только из опер, и мама говорила, что она может, скажем, «Пиковую даму» пропеть всю от начала до конца. Но мне одно, бывало, подавай — Тореадора!..
Когда своим низким цыганистым голосом она пела, что «тореадор — солдату друг и брат» и что «уж близок час», сердце у меня начинало колотиться, голова наливалась оранжевым туманом, я чувствовал — надо куда-то бежать, кого-то заслонить, на кого-то немедленно кинуться грудью, и если нет - тогда все, и сейчас я умру — от восторга и отчаяния...
Она пела — и если бы красную розу в ее волосы, казалось мне, была бы Кармен!.. Я понял вдруг — еще одно из моих бесчисленных открытий! — что Испания — вроде бы такая близкая для меня, такая знакомая — это не только рев орудий, окопы в колючей проволоке, баррикады в предместьях вздыбленного Мадрида. Была еще иная жизнь: бои быков, тореадоры, контрабандисты, ночные серенады, мужчины и женщины, которые любили, обманывали, убивали друг друга — все из-за той же любви. Это меня озадачило. Но не надолго. Тореадоры, так я решил, конечно же на стороне республики, такие люди не будут заодно с Франко! Где-то в вышине, рядом с красным знаменем, вспыхнул пурпурный плащ. «Тореадор, смелее в бой!» звучало для меня так же, как «Но пасаран!».
Душными вечерами мы всей семьей отправлялись к Большому дворцу подышать плывущей с гор прохладой. Между нами в серединке мелкими напряженными шажками шла тетя Дора, похожая на девочку, если бы не длинноватое платье, обычно из темного материала, и не пятиконечная звездочка на груди, рдеющая, как налитый жаром уголек.
Встречные, скользнув было в нашу сторону равнодушным глазом, тут же возвращали взгляд, и лица их попеременно выражали: недоверие, уважение, улыбку. В то время — орден, да еще у женщины, да еще такой маленькой, да еще орден Красной Звезды!..
Стоит ли говорить, что я испытывал на этих прогулках!.. Я знал, что моя тетя — да, та самая, которая варит кизил и поет арии из оперы «Кармен»! — что она — инженер и работает на военном заводе, и за какое-то изобретение ее наградили орденом Красной Звезды.
Сама же она, когда мы так вот, в сопровождении многих взглядов, шли по ливадийскому парку, как-то вся сжималась, глаза смотрели жалобно, упрашивая — прикрыть, заслонить... Слава была ей в тягость. Но свой новенький орден она носила на платье постоянно, — наверное, оттого, что в те годы так было принято.
И все это сливалось в одно — тореадор, Кармен, орден, Испания, — когда я смотрел на карту, повторяя про себя слова, похожие на далекий грохот канонады. Военное изобретение было военной тайной, но я представлял, что между ним и раскатами этой гибельной для фашистов канонады есть какая-то связь!
При всем том, прикасался ли я к пятиконечной звездочке рукой, чтобы погладить, начищал ли металлический ободок ордена тряпочкой до серебряного блеска, у меня постоянно возникало еще одно странное чувство...
Как и все мальчики тех лет, носившие короткие штаны на помочах, перекрещивающихся на спине, и чулки на пристегнутых к лифчику резинках, я с тоской ожидал неизбежных, прямо-таки роковых минут любого домашнего праздника, когда приходилось декламировать перед гостями какой-нибудь стишок. Но уж если приходилось, то все мы, наверное, предпочитали остальному знаменитое:
Слышал я, фашисты
Задумали войну...
Стихи были бойкие, мы тараторили их с чувством. Потом, подрастая, смотрели фильмы о войне — «Первый удар», «Эскадрилья номер пять», подпевали марширующим демонстрантам: «Если завтра война, если завтра в поход...» или «По военной дороге шел в борьбе и тревоге...» Но теперь у меня возникло ощущение, что песни, стишки, даже кинофильмы — все это было не настоящее, а настоящее — вот эта звездочка, военная, хотя наша страна ни с кем не воюет сейчас. Не понарошке военная, а на самом деле, и уж если ее дали, так, стало быть, есть за что — военный орден в мирное время!
И когда — остро, как шильце, — кольнула меня эта догадка, вся разлитая вокруг уютная, домашняя тишина сделалась вдруг ненадежной, непрочной, вызывающей недоумение...
Потом это чувство пропало, заглохло. И всколыхнулось вновь, когда я держал в руках гимнастерку и пилотку — настоящую гимнастерку и настоящую пилотку, и они были до того настоящие, что мне в голову не приходило надевать их, примерять, вертеться в них перед зеркалом или вообще как-нибудь с ними играть.
Хотя это-то и ожидалось, пожалуй, от меня, то есть что я стану играть, потому что играть было, во-первых, больше не во что, а во-вторых,— негде, мы и сидеть-то сидели чуть не колено в колено — в крохотной комнатушке одной нашей знакомой, тоже астраханки, давно перебравшейся в Москву. Отец захватил меня с собой в командировку, и мы заглянули к ней — повидаться, проведать. Она жила в большом, старом, из красного кирпича сложенном доме, в квартире, разделенной на множество комнат, с общей на все семьи кухней, общей ванной, общим туалетом. И вот из огромного, занимающего половину комнатки шифоньера, из вороха платьев появились — специально для меня — плечики с почти новенькой, зеленой, не успевшей выгореть гимнастеркой, и потом среди груды какого-то женского добра была отыскана пилотка, и уже с применением почти безнадежных усилий — красноармейский ремень... И это меня поразило, пожалуй, особенно: как неожиданно из обыкновенных домашних вещей, из всей этой ерундистики, всех этих крепдешинов и крепжоржетов, из всего этого мирного, уютного барахла возникла настоящ а я гимнастерка, а с нею пилотка со звездочкой, и еще — широкий, из жесткой кожи ремень с тусклым свинцовым отливом.