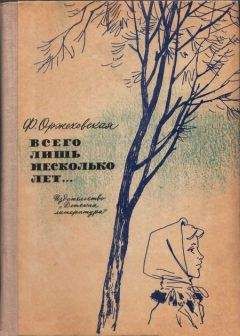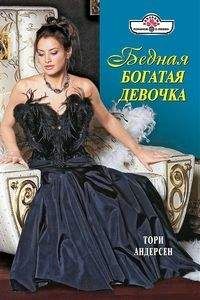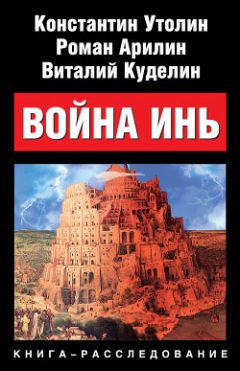Кейт Уотерхаус - Билли-враль
— А это у тебя, стал'быть, календари?
Пошатнувшись, я чуть не сверзился с крутого холма на пустошь. Потом глянул на Граббери, надеясь посмеяться вместе с ним его дурацкой шутке — дескать, нам, остроумным парням, и повеселиться не грех, — но лицо у него было каменное.
— Это… оно конечно… это вы ловко меня поддели, господин советник, — растерянно пробормотал я.
— Не знаю, парень, кто тут кого поддел, — сказал Граббери. — Крабрак, стал'быть, рассказывает мне в телефон про это дело, а меня, знаешь, как обухом по голове. Ведь у этого парня соображения-то должно быть поболе, думаю. По его-то доле, чтоб долевлечь подоле. — Он как бы рассуждал сам с собой, вроде йоркширца-дворецкого в комедии, когда тот говорит что-нибудь понятное йоркширской публике в зале, а его хозяин-лондонец на сцене ничего не понимает. Он очень внимательно, как мне казалось, разглядывал мой сверток, и я со страхом подумал, что мудрые старики, может быть, в самом деле встречаются и что он такой мудрый старик и есть. Как тут было выкручиваться? Даже если он узнал во мне одного из трех работающих у него парней, ему все равно не понять, что я именно Сайрус. Мне пришло в голову назваться Артуром и сказать, что он нас перепутал.
Но я ничего не сказал.
— Так ты, стал'быть, трогаешься в Лондон? — заинтересованно спросил Граббери, как будто история с календарями сама собой вдруг уладилась к полному его удовольствию.
— Да меня уже пудыдобит от Страхтона, — с внезапно проснувшейся надеждой проговорил я и вспомнил, что это слово знает, кроме меня, только Артур: мы сами его придумали.
— Это как же так? — спросил Граббери.
— У меня все внутри задрохло и отклямчило, — объяснил я, забыв от страха, что эти два слова — тоже наше с Артуром изобретение.
— Ага. — Старик потыкал землю тростью и сказал еще раз: — Ага. — Я просто не представлял себе, о чем он сейчас думает. Ему, конечно, обязательно надо было объяснить, что я хотел сказать, но в голове у меня не находилось решительно никаких объяснений — ну никаких!
— И что ж мне с тобой, парень, делать? — раздумчиво протянул Граббери.
— Это вы, стал'быть, про что, господин советник? — суетливо спросил я.
Он остро глянул на меня, и я вдруг впервые ясно осознал, что никакой он не маразматик. Сердце у меня опять дало сбой.
— А ты, стал'быть, надо мной надсмехаешься, — сказал старик.
— Да что вы, господин советник, — мучительно побагровев, пробормотал я. Мне было стыдно и пакостно.
— Ты бы уж, стал'быть, говорил, как тебя мать с отцом в школе выучили, оно бы лучше было. Мы, конечно, необразованные, нам всего самим пришлось достигать, а посмешище над нами учинять все одно нехорошо. — Он разговаривал со мной осуждающе, но как-то очень мудро и по-доброму. Мне было до смерти стыдно.
— Ну да ладно, парень, будет с тебя, чего там особенно рассусоливать, мы ведь это все в конторе и так и эдак уже обговорили. И Крабрак думает, что мне бы надо с твоим отцом про тебя потолковать. Как по-твоему-то — надо?
— Не знаю, господин советник, — понурившись, промямлил я. Мне, конечно, очень хотелось попросить его, чтоб он не жаловался на меня отцу, но как-нибудь без унижения, без мольбы.
— Ладно, парень, очень-то не горюй, все еще, глядишь, обойдется, — утешил меня старик.
Я посмотрел на него со сконфуженной, благодарной полуулыбкой.
— Ну вот, так-то лучше, парень. Все еще, глядишь, обойдется, — повторил он. — Надо обмозговать, как тут быть. Я, брат, обмозгую. А покуда не горюй. — Он взял меня за руку. Я почему-то уже не чувствовал никакой неловкости. Мне даже удалось посмотреть ему прямо в глаза. — Так что не горюй, парень. Ты ведь еще молодой. Тебе еще жить да жить. Только надо посерьезней. Думать надо, парень.
Он отпустил мою руку. В его словах прозвучало что-то очень веское, только вот не понял я — что. Он засовывал свой громадный носовой платок в карман пальто, собираясь уходить. А мне хотелось, чтобы он остался. Нет, бояться я уже не боялся. Мне хотелось, чтобы он дал мне какой-нибудь мудрый, годный на все случаи жизни совет.
— С бабушкой у меня плохо, — неожиданно для себя брякнул я. Но он, видимо, не услышал.
— А я, знаешь, рад, парень, что мы потолковали, — невпопад отозвался он и заковылял вниз по склону холма, выбирая самый пологий спуск и как бы нащупывая себе путь блестящей на солнце тростью. Немного спустившись, он с трудом обернулся и добавил: — Так что ты думай, парень. А бояться не бойся.
Я глядел ему вслед, и до меня постепенно доходило, что мне в первый раз захотелось перед кем-то исповедаться и что ему я, может быть, смог бы все объяснить, все-все. Я едва удержался, чтобы не окликнуть его.
Я стоял на склоне, пока он не спустился вниз, к полосе чахлой травы, росшей по краю пустоши. Мне хотелось подольше сохранить в душе то, что я сейчас чувствовал. А чувствовал я покой и грусть. Страх не возвращался. Повернувшись, я зашагал вверх по крутой каменистой тропе, петляющей между огородными участками, к вересковым зарослям; и даже присыпая торфянистой землей могилку с календарями, я по-прежнему ощущал счастливый покой и грусть.
Глава седьмая
Ведьма уже выуживала из сумочки апельсин, но мне почему-то казалось, что впереди меня ожидает необыкновенно счастливая жизнь, и омрачить мое настроение было сегодня трудно. Мы ехали на верхотуре семнадцатого автобуса к муниципальному кладбищу. Я тихонько напевал, перебирая в кармане любовные пилюли. Ведьма зудела о наглых типах в плащах, пристававших к ней, пока она ждала меня в проезде Святого Ботольфа. Они, слава богу, отбили у нее желание пялиться на магазинные витрины. Мы уже проехали полдороги, а она все возмущалась.
— … Ужас, до чего противные!
— Да забудь ты про них, — пробормотал я. — Прими-ка вот лучше возбуждающую пилюлечку. — Я протянул ей на ладони две черные бусины. — Это мы так называем тонизирующие таблетки, — сообразив, что ляпнул не то, торопливо добавил я. — Они возбуждают в человеке скрытую энергию.
Ведьма плотоядно ковыряла большим пальцем полуочищенный апельсин. Автобус как раз проезжал мимо рекламных щитов.
— Вон, вон, гляди! — дернув ее за рукав и ткнув пальцем в стекло, возбужденно воскликнул я. — Эх, черт, опоздала! Там была реклама этих самых таблеток. «Возбуждает скрытую энергию», так и написано. Вот мы и прозвали их возбуждающие пилюли. Их всегда принимают по две.
Ведьма отправила в рот дольку апельсина и окинула меня снисходительным взглядом.
— О чем это наш глупышик толкует? — прощебетала она. Честно глядя на нее чистыми глазами, я протянул ей с простодушной улыбкой две черные пилюли.
— Очень полезно с фруктами, дорогая.
— Чем бы дитя ни тешилось… — бурно, с насмешливой покорностью вздохнув, сказала Ведьма, сунула в рот пилюли и заела их апельсиновой долькой. — Доволен, глупыш?
Я удовлетворенно откинулся на спинку сиденья и закурил сигарету.
— Пятая сегодня.
— Значит, последняя, — предупредила меня Ведьма.
Жизнь казалась мне лучезарной. Мы вышли из автобуса у кладбищенских ворот и зашагали по красной гравийной аллее мимо светлых надгробий. Иногда, в таком вот, как сейчас, радостно-приподнятом настроении, я понимал, почему Ведьму очаровало это кладбище. Порой оно очаровывало и меня — просторное, опрятное, уютно-спокойное, словно университетский дворик в американском музыкальном фильме о жизни студентов. После древних, с темными разводами надгробных памятников у церкви святого Ботольфа ровные ряды схожих между собой могил и аккуратно овальные камушки чистых аллеек на муниципальном кладбище выглядели очень привлекательно. Казалось, все здешние покойники приняли какую-то сугубо современную, одинаково гигиеническую смерть.
Мы свернули на травянистую тропку между рядами могил и пошли напрямик к нашей скамейке с навесом у краснокирпичной часовни в конце длинной подъездной аллеи. Ведьма привычно шастала от могилы к могиле, восхищаясь ангелочками и яркими осенними цветами; всякий раз, увидев могильный цветник, она восклицала: «Посмотри, милый, правда прелестно?», а иногда, благоговейно склонившись к надгробью, читала вслух стишок, выбитый золотыми печатными буквами:
Папа и мама, покойтесь в могиле!
При вас мы на диво счастливыми были,
Но в горькой разлуке нам радостно знать,
Что теперь вы на небе и вместе опять.
Я благодушно слушал Ведьмины восклицания и могильные стишки, представляя себе огромные часы с минутной стрелкой, которая перепрыгивала сразу на четверть круга. Наученный дневным опытом, я решил не приступать к Ведьме по крайней мере полчаса, и она прочитала мне целую антологию кладбищенских стишков, пока мы неторопливо пробирались к нашей уединенной скамейке возле псевдостаринной погребальной часовни.