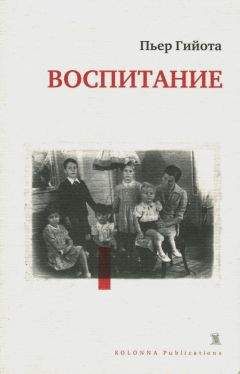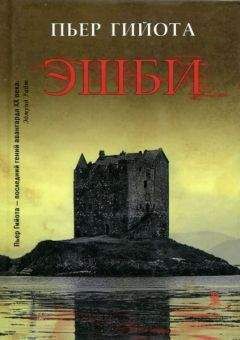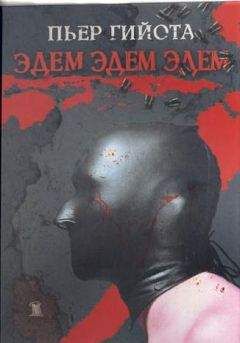Александр Снегирев - Моя малышка
– Не расскажу! Обещаю!
– А то она меня заест. Она же меня чуть ли не сталинистом считает.
– Не расскажу. А при чём тут Сталин? – Мечты о новообретённых родственниках тают.
– Сейчас поймёшь…
Папа – сын советского генерала, сделавшего карьеру во время репрессий. Не знаю, насколько его совесть чиста, но мама, в моменты семейных ссор, часто попрекает папу его родителем-«сталинистом». У нас ведь политика даже в отношениях жены и мужа актуальна.
– В общем, так, – начал папа. – Однажды приходит отец с работы и зовёт нас с матерью на разговор. Сорок шестой год был. Весна. Мне только десять лет исполнилось, но отец сказал, что я уже большой и должен всё знать. Хорошо помню, как он долго подбирал слова. А когда заговорил, то язык его мне показался странным и чужим, как у пропагандиста. Казённые фразы, ему не свойственные… «Враги активизировались. Новое обострение классовой борьбы. Шпионы. Диверсанты. Смерть изменникам родины». Я искренне удивился и говорю: «Как же так, ведь победа!.. Весь народ в едином порыве!.. Ведь теперь все вместе, какая же классовая борьба?!» Отец ответил, что партии виднее, и я умолк. Отец перешёл к делу, ему на службе предписали выделить комнату для сотрудника… – папа замялся.
– НКВД?
– Ну да, да, – сказал папа быстро, как говорят о вещах пустяковых, не стоящих внимания. – У нас в особняке была отдельная двухкомнатная квартира. В одной комнате жили родители, а в другой я с бабушкой. Но бабушка умерла за несколько месяцев до того разговора. На службе у отца об этом, конечно, знали.
– И что вы решили? – спрашиваю я.
– Сейчас, извини. – Папа принял пушистую шубу у раскрасневшейся дамы, пошутил с ней о большом весе меха и выдал номерок. Дама пошла за коньками. – А что тут решать! Мать спросила отца, можем ли мы отказаться. Отец ответил, нет.
В папиных глазах отражаются верхушки домов за окном и небо. По небу пролетела стая голубей.
– Через несколько дней пришёл мужичок. Представился Филиппом Филипповичем. Как его на самом деле звали, бог его знает. Воспитанный такой. Корректный. Сказал, что ему надо будет работать у нас всего несколько часов в неделю. Попросил отдельный ключ от входной двери. Всегда предупреждал о своём приходе заранее. В общем, вёл себя культурно. К нему стали захаживать осведомители…
– Стукачи? – перебил я.
– Да нет.
– Как это нет?! Получается, этот Филиппович принимал стукачей в вашем доме! Мои родные дедушка и бабушка помогали репрессиям, прекрасная новость!
– Весь в мать!
– А что, разве не так?!
– Ну, пускай и так!.. Не в этом дело, – махнул рукой папа.
Не в этом дело! Не нравится ему, что я вещи своими именами называю! Я прямо воспылал праведным гневом. Мы снова надулись и отвернулись друг от друга. Расстреливать этих стукачей надо… На этот раз первым заговорил папа:
– В общем, приходили к нему всякие. Дворничиха, билетёрша из кинотеатра, школьный сторож. Он всех принимал в моей комнате. И вот как-то Филипп Филиппович пришёл с продавщицей из соседнего магазина. Крашеная такая баба, тараторила без умолку, с украинским говорком. Бабушка таких трещотками называла.
– Ну? – нетерпеливо подгоняю я.
– Что «ну»? Мне всегда было очень интересно, о чём Филипп Филиппович с ними говорит. Но меня то дома не было, то они говорили тихо, а тут мы с матерью как раз из парикмахерской вернулись. Меня тогда машинкой первый раз стригли. – Папа сморщился.
– Больно?
– Больно. Машинки ручные были, затупленные. Я так орал, что меня не достригли, и мать повела домой, как есть. По дороге она успокаивала меня и держала руку на моей макушке, откуда торчали нестриженные клоки. Прикрывала, в прямом смысле, чтобы мальчишки не засмеяли, и ей самой, видимо, стыдно было. – Только мы вернулись, как Филипп Филиппович явился со своей продавщицей. Поздоровался культурно, про мою причёску ни слова, прошёл с этой трещоткой в мою комнату и плотно прикрыл за собой дверь. И всё равно её слышно: тра-та-та, тра-та-та, и довольно громко. Иногда её голос вдруг становился тише, а потом снова тра-та-та, тра-та-та. Но слов издалека всё равно не разобрать.
Мать как раз отвлеклась на кухне, и я решил подслушать. Перед дверью моей комнаты была прихожая. Как преодолеть это расстояние максимально бесшумно? Я сделал один гигантский шаг. До двери осталось столько же. Сделал второй. Паркет скрипнул. За дверью стихли…
Представив себе папу, которому теперь за семьдесят, ребёнком с полуостриженной башкой, крадущимся через холл, я расхохотался:
– Безумная картинка! Послевоенная Москва, энкавэдэшник опрашивает стукачку, а мальчик с клоками волос на полуобритой голове пытается их подслушать! И всё это в старинном дворянском особняке!
Папа тоже засмеялся, вытаращил глаза и тронул меня за плечо. Мол, слушай дальше:
– Паркет скрипнул, я чувствую – пропал. И быстро сделал ещё один гигантский шаг в сторону. За дверью послышались шаги. Я уставился на трофейную бронзовую лампу. Отец из Германии привёз. Лампа в виде девушки, стоящей почему-то на перекладине забора. Все тогда думали, что она на ходулях, а на самом деле просто некоторые детали были обломаны. Короче, дверь открывается. Краем глаза вижу: Филлип Филлипович пристально меня изучает.
– А ты что?!
Папа не может сдержать смех:
– Знаешь… во всей этой истории я только одного не помню: посмотрел я на него или нет. Хотел выглядеть максимально естественно, не выдавать себя. Если бы я посмотрел на него, стало бы ясно, что я подслушивал. А не посмотрел, значит, мне вроде как безразличны его разговоры. Вроде как я просто мимо шёл.
Я подумал, что дико обкромсанный мальчик, нарочито пристально рассматривающий статуэтку, которую видит каждый день, у любого бы вызвал подозрения.
– Наверное, я всё-таки не выдержал и посмотрел, но так перепугался, что забыл… – размышляет вслух папа.
– А он что?
– Закрыл дверь, и всё. А вечером мать мне говорит, мол, Филипп Филиппович хочет, чтобы я какой-то документ подписал. Я испугался и спросил, какой документ? А мать как будто подменили! Она отвернулась и сказала, что я уже взрослый и должен отвечать за свои поступки. Хватит капризов! Особенно, когда классовая борьба вновь обострилась и шпионы… и диверсанты… Изменников родины надо расстреливать, хоть бы они были даже самыми близкими людьми, хоть бы даже родными детьми… Помню, я её попробовал обнять… Ну, ребёнок… сам понимаешь… испугался… А она схватила ножницы, пригнула меня к колену… и давай обстригать все клоки с моей башки. Грубо. Помню, очень больно было. Я реву, верчусь, она меня даже поранила…
На катке смех, шутки. Слышен звук рассекания льда острыми лезвиями. Он очень напоминает тот, когда ножи точат. Только не на точильной машинке, а просто о камень, который держишь в руке. Ж-ж-ж-х, ж-ж-ж-х-х-х.
– От отца мать всё скрыла. Через несколько дней Филипп Филиппович пригласил меня к себе, то есть ко мне в комнату. Захожу и как будто в первый раз всё вижу. Стол, железная кровать, на полу моя самодельная штанга: железная труба и две пятикилограммовые гири с рынка, привязанные к трубе проволокой. Вроде сам эту штангу мастерил, а кажется, что не моя она. Филипп Филиппович усадил меня за стол, пододвинул чистый лист и велел обмакнуть перо в чернильницу, подарок матери – арфа и два стаканчика.
«Пиши», – говорит. «Что писать?» – «Пиши: я, такой-то, такой-то, обязуюсь не разглашать государственную тайну под страхом расстрела за измену родине».
– А ты что-нибудь слышал из их разговора?
– Ничего.
– Совсем ничего? Ни слова?
– Ничего.
– Здравствуйте, уважаемый! Можно сумку у вас оставить? – перебил нас тяжело дышащий от собственной полноты кавказский мужчина.
– Сумки в камеру хранения сдавайте.
– Она не помещается, уважаемый!
– Мы сумки не принимаем, – строго ответил папа, давая понять, что разговор закончен.
Мужчина пыхтит недовольно и удаляется.
– А вскоре мать нашла способ избавиться от Филиппа Филипповича. Наняла домработницу, и он уже не мог спокойно встречаться со своими… с этими…
Мы помолчали. Пришла мысль, что письменная клятва оставаться верным родине, подписанная моим десятилетним папашей, возможно, до сих пор лежит в секретных архивах.
– И больше ты его не видел?
– Никогда. Мы никогда о нём не вспоминали вслух. Без всякого уговора. Просто все про Филиппа Филипповича молчали, но какая-то заноза сидела. Уже в семидесятые, незадолго до смерти матери, я её как-то спросил: «Помнишь Филиппа Филипповича?», а она отвернулась.
– Что, так ничего и не ответила?
– Ничего.
РЕБЁНОК – ЭТО КРУТО!
Приятель жалуется ему на свой член длиною четырнадцать сантиметров. Маленький, говорит. И заглядывает в глаза проникновенно. И молчит. Смотрит. То ли подтверждение хочет услышать, то ли опровержение. Мол, «не завидую тебе» или «нормальный размерчик»…
Он делает по возможности невозмутимое лицо.