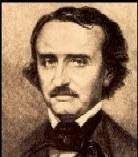Юрий Красавин - Русские снега
— Домов у них там всего шесть, — вставил Трегубчик. — А раньше-то было десятка четыре.
— Ладно, — Мухин записал что-то в ведомость. — Кто у вас там самый зажиточный?
Ваня молча смотрел на него. Лицо у Мухина худое, небритое; когда он проводил ладонью по щеке или подбородку, слышался электрический треск.
«Опалили бы его заодно с боровом», — подумал Ваня. Странным образом и Мухин, и Алфёров со Сладимым услышали то, что он подумал. Мухин посмотрел на пленника свирепо.
Лет ему, Мухину, небось, не более сорока. Значит, что-то путает почтальонка Тоня: не могло его быть в тридцатом году, поскольку родился где-то в пятидесятых. Впрочем, если он сохранился в законсервированном виде…
— Самый богатый у них Митрий Колошин, — опять подсказал Трегубчик. — Дом у него большой, под шиферной крышей… два телевизора, черно-белый и цветной.
— Та-ак. У кого-то ни одного, а у него два? Ну, мироед!
— Ещё корова с теленком, свиноматка и четыре поросёнка при ней, гусей целое стадо…
— Верно он говорит? — спросил Мухин у Вани.
— Надо ограбить, — сказал Ваня. — Что вам эта курица! Иное дело: гусей поджарите на вертеле.
— Это он издевается, — подсказал Трегубчик Алферову. — У него язык очень ядовитый, у этого Ваньки.
— Угу, — удовлетворённо сказал Мухин. — Так и запишем: Колошин. Значит, он на очереди. Сначала отправимся в Починок, потом в Лучкино…
Писал он почему-то не ручкой из своего письменного прибора, а химическим карандашом, который то и дело совал в рот послюнить.
— Погоди-ка, а ведь я Колошина уже потрошил в тридцатом! — вспомнил Мухин. — Или это другой? Ну да, тот был Василий Кирилыч. Как же, хорошо помню: мы к нему во двор, а он на нас с оглоблей.
— Так то Митрия отец! — весело сказал Сладимый. — Говорили про него, что лихой был. Ему рога обламывали где-то в песках, там и остался. А у Митрия в городе трое сыновей.
— Вишь ты… Корень не извели, опять побеги пустил. Ладно, разберёмся и с сыновьями.
— Он в батю, Митрий-то! Небось, тоже оглоблю в руки возьмет, ежели что, — весело предупредил Ваня.
— Работников держит? — спросил у него Мухин строго.
Дурацкий вопрос заслуживал дурацкого ответа, но шутить не хотелось.
— У него родная сестра в работницах, — подсказал кто-то из темноты коридора, где толпились какие-то люди…
— Угу, — с удовлетворённым видом делал помётки Махин. — Конечно, где ж одному с таким хозяйством управиться! Нужно использовать наёмный труд — это закон мироедства и эксплуатации.
— Колошин — инвалид без обеих ног, — не выдержал Ваня. — А сестра его Ольга — горбунья. Что вы чушь всякую несёте!
Мухин на это сказал сурово:
— А у нас все равны, и больные, и здоровые, стройные и горбатые. Ни тех, ни этих нельзя угнетать и эксплуатировать. Понял?
5.— Наш принцип: каждому по потребностям, — внушительно продолжал Мухин. — Но меру потребностей устанавливает общество. Ясно? Рот у Колошина один? Один, как у всех. Вот когда у него будет два рта, два пуза, и всего прочего по паре…
Алфёров не засмеялся — заржал.
— …тогда посмотрим. А пока потребности должны быть у всех одинаковы и на разумном уровне. Справедливо? Справедливо.
Тут они все насторожились, ибо в пустоте рядом с Мухиным раздались совершенно мирные звуки: словно в самоваре, которого тут вовсе не было, кто-то открыл краник и стал наливать в чашку. Журчала струйка воды, и самовар пошумливал, звякала чашка о блюдце. Но все прекратилось, словно краник завернули. Тихо стало. Потом где-то рядом послышался разговор странный — говорили:
— Лето убо на четыре времени разделену: на весну, на жатву, на осень, на зиму.
— Остави жатву свою, начни имати вино…
— Стояста две недели тепле вельми переже жатвы…
— По наволоку урожайно ныне…
«Жрецы» переглянулись, на Ваню посмотрели, словно заподозрили в чём-то и ждали от него объяснения. — Это призраки, — сказал он и добавил потише. — И вы тоже…
— А ну, Алфёров, дай ему на шее! — загорячился Сладимый.
— Дай сам, — посоветовал Ваня с угрозой в голосе.
На это Сладимый не решился или не успел: дальний конский топот и свист донеслись с улицы.
— Что это? — строго спросил Мухин, прислушиваясь…
— Татарва гуляет, — подсказали ему из коридора.
— Ничего, ничего… У нас с ними сепаратное замирение. Они нас не тронут.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Мухин опять вознамерился что-то писать, карандаш послюнил.
— Значит, ты, парень так рассуждаешь: вашему Митрию хлеб с маслом, а вот этим ребятам — хлебушек с солью? Так, да? Вот что я тебе скажу: кто хочет отдельно от всех и с маслом, того к стенке, как социально незрелый тип.
Тут Мухин стукнул кулаком по столу, и курица, лежавшая на газете, подпрыгнула, как живая.
— Что ж теперь, второй раз будем раскулачивать? — произнёс в коридоре чей-то голос.
— Ты, Лексей, жалостливый больно, — усмехнулся Мухин. — Классового чутья в тебе нет. Я тебе для понятия пример приведу… Вот человеческий организм состоит из клеток, так? Когда одна клетка начинает шибко разрастаться, то что получается? Раковая опухоль. Это я тебе по-учёному объясняю. И тут в организме срабатывает защитная система: она раковую клетку убивает. А не убьёт — человек погибнет. Понял? Закон жизни. Так должно быть и в человеческом обществе.
— К ногтю их всех! — бодро сказал Алфёров.
— Хапать кусок шире рта не позволим никому, — уполномоченный Мухин открыт ящик стола — в нём лежал револьвер; небрежно отодвинул его, достал кисет, газету, сложенную гармошкой, оторвал клочок с крупными буквами «ЦК КПСС», стал сворачивать цигарку. — Всё зло — в неравенстве! Запомни это, парень. Если в подполе десяток гнилых картошин заведётся, весь запас сгниёт. А потому гнильё — вон! Как сорняки с поля. Остальные здоровы будут. Что, я не прав? Вот то-то.
— Если здоровые столбы подпилить, всякое строение упадёт, — возразил Ваня.
— Тогда снести его к такой матери и построить новое! — Мухин пыхнул синим дымом, как дракон, глаза его сверкнули, он пристукнул кулаком по столу — и курица, и телефон подпрыгнули.
— Товарищ Мухин, я вспомнил: у этого парня дядя архимандритом, — обрадованно сообщил Коля Сладимый.
— Да архитектор он, а не архимандрит, — усмехнулся Ваня.
— А нам всё рано, — хладнокровно сказал уполномоченный неведомо кем, — что архидьякон, что архидьявол — мы всех к ногтю.
— Да чего с ним толковать, товарищ Мухин, — сказал Трегубчик. — Разве не ясно, чем он дышит? — Кто не с нами, тот против нас, — веско молвил Сладимый, у него даже бас прорезался. — Тут правило такое: пока слепой, топи котёнка! — ухмыльнулся Алфёров.
Ваня бросил на него презрительный взгляд:
— Ты всё топил бы да стрелял. Живодёр.
Алфёров коротко размахнулся и ударил его — Ваня отшатнулся. Этого им показалось мало: пастух Трегубчик сорвал с Вани шапку, нахлобучил на свою голову — а голова у пастуха маленькая, утонула в ней. Он уже и пуговицы у куртки Ваниной стал расстёгивать, хотел снять, но тут Мухин распорядился:
— Запихните его в ту каморку, и там заприте. Пусть посидит, подумает. Он ещё нам пригодится.
«Классовая борьба» продолжалась и в коридоре, потому что Ваня озлился вдруг и сопротивлялся изо всех сил. Но Алфёров — мужик дюжий, ему помогали Сладимый и Трегубчик, поди-ка совладай с ними. Они его впихнули куда-то в темноту и заперли за ним дверь.
— Потом приспособим под тюрьму зерновой склад, — слышно, сказал сзади Мухин. — Там места всем хватит.
Разгоряченный этой потасовкой, Ваня яростно толкал дверь, стучал в неё кулаком:
— Эй вы, сатрапы! Палачи! Отоприте!
Из коридора ему пообещали переломать руки-ноги.
— Шапку-то отдайте, мародёры!
Дверь отворилась, в каморку вбросили что-то — это была гнусная шапчонка, пахнущая соляркой и палёной свиной щетиной. Ваня крепко вытер об неё ноги. Опять всем телом ударился в дверь:
— Эй, вы там!..
Никто ему не отвечал. Да и не слышали его в общем многоголосье.
2.В коридоре шум поднялся шум, топот, возня, и в комнату к Мухину втиснулось сразу много женщин. Они кричали:
— Да что ж это творится-то!
— Кто ж за нас заступится, если не вы?
— Мужики вы или не мужики?
— В чём дело? — строго спрашивал Мухин.
Ему в ответ:
— Стожок сена стоял возле двора — подъехали, уволокли. Я на крыльцо-то выскочила, кричу, а этот, косоглазый, зубы скалит — рожа неумытая, бородёнка реденькая, как у козла… — У меня прикладок сена был на задворках; нынче хвать-похвать — нету прикладка! Только следы остались… — Из дому выйти боюся… Двери приперла, так всё равно страшно: вдруг подожгут! Сижу, топор наготове.