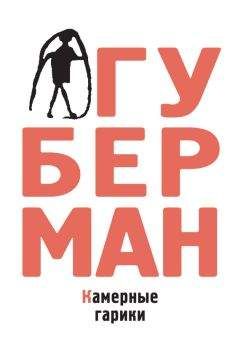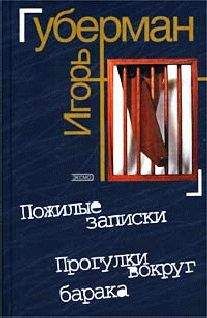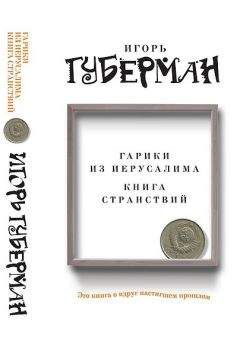Игорь Губерман - Камерные гарики. Прогулки вокруг барака (сборник)
Но зато именно в Загорске приобрел я свой первый опыт самого, быть может, страшного из того, чему учат тюрьма и лагерь: что в себе надо силой давить сострадание и сочувствие, что нельзя ни за кого заступаться. Чуть попозже, в Рязани, где сидели в камере скопом люди с общего и усиленного, строгого и особого режимов, довелось мне дня три пообщаться с интеллигентным средних лет ленинградцем, ехавшим на поселение. Ожидая этапа, встретиться на воле мы не договаривались, хотя очень этого хотелось обоим, но еще впереди были годы, а он знал, как меняет людей лагерь, и молчал, не прося у меня адрес, молчал и я, полагая, что не стоит навязываться. Однако же о будущем моем он, очевидно, думал, ибо как-то на прогулке отвел он меня в сторону, закурил и сказал как нечто очень-очень важное:
– Старина, посидевшие на зонах различают людей насквозь, ты еще научишься этому. А пока ты наивен, как щенок, несмотря на свои сорок пять, седину и возвышенное образование. Ты в лагере наверняка приживешься, и друзья у тебя будут, и приятели. Об одном только, с тобой пообщавшись, я хочу тебя сразу предупредить. Ты неизлечимо болен очень редкой даже на воле болезнью – ты ко всем суешься с добром. А на зоне это не просто глупо, это опасно. Добро можно делать только в случае крайней необходимости, а по возможности – совсем не надо делать. За него тебе добром не отплатят, в лучшем случае – ничем не отплатят. Чаще – злом. Оно возникает само и ниоткуда. Ты меня сейчас не поймешь. Поверь. Я на воле жил, как ты. Но воспитался. Знаешь, на блатной фене есть замечательное выражение: попасть в непонятное. Еще не слышал? Ах, слышал. Так вот ты все время в него будешь попадать. Не суйся! Ты не веришь мне сейчас, я знаю. Только слушай, неужели ты еще ни разу в тюрьме в непонятное не попадал?
Попадал. Просто я не сказал ему об этом. В первый месяц в Загорске. В нашей камере было восемь шконок (это узкие нары на одного), а сидело нас пятнадцать человек – спали на столе и на полу. Помещались. Много было блох и клопов. Ловили. А у рослого симпатичного парня Мишки красная шла сыпь по всему телу – нервное что-то, как он нам объяснил, и его каждый день водили в санчасть мазаться. Он сидел за какую-то драку: то ли он соседа побил, то ли целую семью соседскую, – так обычна была его история, стольким давали срок за пьяную стычку, что забылось всеми немедленно все, что он рассказал. Но однажды, уже с месяц спустя, принесли ему обвинительное заключение – скоро предстоял, значит, суд. Покажи, пристали к нему в камере, все показывали друг другу эти данные предварительного следствия, представляемые в суд. Называли их не иначе, как объебон. Покажи свой объебон, пристали к нему, а он категорически отказался. Завтра, сказал он хмуро, сегодня сам буду читать. Завтра так завтра. Но наутро этих листков не оказалось, только последний самый, где перечислялись вызванные в суд пострадавшие и свидетели. Были там перечислены пять или шесть женщин, а он, помнится, рассказывал о пожилом соседе. (Пожилом – это значило, что моих лет, молодые все сидели в камере парни.)
Коллектив нашей камеры возмутился громко и единодушно – все показывали свои объебоны, что могло там быть такого особенного? Потом затих общий галдеж, но тишина – самая опасная в тюрьме атмосфера. Переглядывались, перекидывались односложными словами в его адрес. Он отмалчивался и лежал на своей шконке, отвернувшись к стене лицом. Он еще сказал всем, что ночью отдал эти листки надзирателю. Но зачем? Это явная была и раздражающая камеру ложь. И когда его вызвали мазаться, двое твердо сказали, что сейчас они будут его бить, когда вернется. Чтобы знал, как нарушать традицию полной открытости любых бумаг по делу. Нет, о самом деле ты был вправе говорить кратко, в камере вполне могли быть подсадные утки, это на личное усмотрение каждого оставалось – устная откровенность, но бумаги – их никто не скрывал.
Да и что в них было скрывать, в казенных бумагах? Скажет, мрачно говорили эти двое, подзадоривая на расправу и остальных. Разворотим харю, опустим почки – скажет. Поддержали их все. Кроме меня. Здесь всего скорей, честно сказать, сыграла роль моя неприязнь к двум этим типам, подмосковным полуспившимся бичам, игравшим сейчас в камере бывалых преступников, рьяных блюстителей тюремных традиций. А больше всего на свете я всегда не любил блюстителей. Чего бы то ни было. Даже самого что ни на есть хорошего. Ибо блюстители с непременностью опошляют и пачкают все, что усердно и добровольно защищают. И поэтому я сел на своей шконке и сказал, что только через меня. Что я бить его никому не дам. Не хотел он, вот и не показал. Не обязан. Вы обижены? А здесь обиженных ебут, это главная тюремная поговорка, вы мне ее сами рассказали. А наказывать Мишку – не за что, и не наше это дело – радовать ментов нашей дракой. Что-то в этом роде патетически сказал я тогда, упреждая назревавшую расправу. (Очень после страшно стало, только было уже поздно отступать.)
Камера хорошо ко мне относилась, и еще два дня этот Мишка, ни с кем не разговаривая, пролежал на своей шконке небитый. Только эти двое ворчали изредка и косились на меня, я же полон был, признаться, самодовольства, что не дал побить человека. А на третий день с утра его вызвали (по фене – дернули) из камеры, чтобы везти на суд, он ушел, ни с кем не попрощавшись, и почти сейчас же мой сосед и приятель выкрикнул голосом Архимеда:
– Мужики! А я знаю, по какой он статье. Он же по сто пятнадцатой, подонок! Вот почему там одни бабы!
И немедля, как бывает только в жизни и в плохих кинофильмах, надзиратель отомкнул нашу дверь и сказал ворчливо:
– Ну, ушел же, конечно, я ведь видел. Я в санчасти говорю: увезли на суд, а она говорит – не может быть, еще два укола осталось.
– Какие два укола? Он же мажется чем-то, гражданин начальник, – спросил кто-то из нас.
Коридорный посмотрел на него презрительно и сказал:
– Деревня! Кто же от сифилиса мазью мажется? И добавил, нашим изумлением польщенный:
– Шестерых еще наградил, сукин сын. И даже собственную бабу.
И захлопнул дверь, что-то снова буркнув о врачихе. Все молчали и смотрели на меня. Я тоже молчал ошеломленно.
– Твое счастье, Мироныч, – хмуро и зло сказал мой сосед, – что ты – это ты, а то дали бы тебе сейчас оторваться, искал бы пятый угол до вечера.
– Что же они, суки, делают, как же его можно было к нам сажать, это же уголовное преступление по той же статье, – бормотал я, чтобы хоть что-нибудь говорить.
– А вчера и позавчера мы с ним все из одной кружки пили, – сказал кто-то.
– Да не убивайся ты, Мироныч, – добродушно сказал сосед. (Спасибо тебе, дружище, где ты, интересно, сейчас. Ломилось тебе лет восемь. Пьяный напарник вез тебя, пьяного куда сильней, на вашем тракторе, раздавил стоявший «запорожец» с мужем и женой, а тебя, когда все это увидел и отрезвел, посадил на свое место.) – Не убивайся. Мы с ним почти месяц сидели, на три дня бы раньше узнали – какая разница? А они и вправду суки. Подумаешь – тюрьма переполнена. Положили бы в санчасти где-нибудь. Им, козлам, плевать на нас. Пронесет, бог даст, не заразимся.
Все в камере загалдели возмущенно, стали обсуждать, куда жаловаться и что за это будет (им, жалобщикам, а не начальству, с этой механикой уже все были знакомы), а я очень долго молча сидел и курил, обдумывая свой первый в заключении опыт соблюдения справедливости.
Грустная мудрость того встреченного ленинградца оправдалась на зоне, где один за другим были мне преподаны чрезвычайно наглядные уроки. Их героем оказался Писатель, я смотрел со стороны и ужасался – как бы это выразиться точней – краху гуманистического сознания. Нет, никаких особых трагедий не было, просто с четкостью взводимой пружины срабатывала логика непременного наказания за добро, отвечая той же мерзостью, что сменила гибельный кошмар былых лагерей грязным растлением человека в лагерях сегодняшних. Было так.
У отряда нашего был завхоз, тоже зек, здоровенный мужик из Красноярска, бывший таксист, севший за кражу двух ковров. Эта странная фигура – завхоз (ибо не было никакого хозяйства в отряде, кроме нас самих) – просто старший зек в отряде зеков, тот рычаг, которым нами управляли, и тот кнут, которым нас погоняли, первый исполнитель воли и прихоти лагерного начальства. Одновременно следовало ему быть цепным псом и не забывать при этом, что тоже зек, чтобы после, а то и прямо в лагере не получить внезапно ломом по голове – очень распространенный вид воспитания любых лагерных активистов. Было у нас восемь отрядов (кладбище называлось девятым), и очень по-разному вели себя их завхозы, одинаково явно заботясь только о своем будущем. Наш был самым оголтелым псом – думаю, что просто по глупости, коей был наделен очень щедро. Его круглая большая голова с совершенно круглыми бараньими глазами (никогда ранее не видел я таких действительно скотских, неподвижных и тупых огромных глаз, только без влажной грусти, что всегда теплится в глазах животных) то и дело мелькала в бараке нашем, где всевластный он был хозяин. Бил он зеков по малейшему поводу, а проснувшись – когда не в духе, – без повода, и боялись его смертельно. Это он в значительной мере был причиной того общего душевного угнетения, что царило у нас в отряде с самого начала, превращая начинающих зеков в отупевшие бессловесные создания. Одной из его первых затей была команда никого не впускать в барак до отбоя, а как раз пошли дожди, похолодало, и продрогшие, мокрые жались зеки у дверей, даже после работы лишенные возможности отогреться и обсушиться. Ни в одном из отрядов такого не было. А Писателя как раз назначили культоргом, странная эта должность кем-то была придумана для показухи самоуправления зеков. Даже был такой балаган, что пришел офицер и предложил отряду самому выбрать культорга (завхоз – тот просто назначался), но при этом сразу назвал фамилию того единственного, которого начальство утвердит. Так что это были настоящие демократические выборы с голосованием и протоколом всеобщего единодушия. Кстати, и в бригаде каждой был культорг – этот явно и просто должен был помогать бригадиру, принуждая нас работать, отчего и брались в культорги (уже сам бригадир себе присматривал) кто пожестче и поздоровей (так что организаторами культурной жизни оказывались, как правило, могучие дебилы), а отрядный культорг – тот был заместителем завхоза. Хочешь – тоже бей, как он, хочешь – тоже набери себе шестерок посильней, только чтоб в отряде были порядок и тишина.