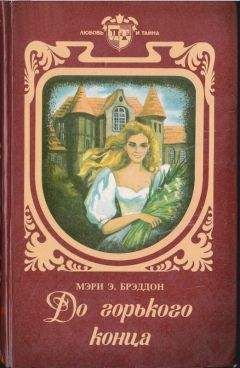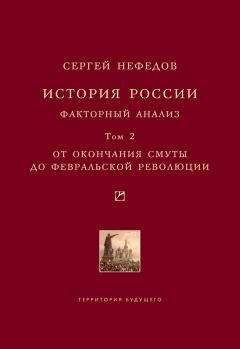Иштван Эркень - Путь к гротеску
Полтора года, пока они не вернулись домой, докторша стерегла их вещи, и с тех пор они относились к ней как к приемной дочери, а не как к жиличке. Об Андришке никогда не заходило речи, докторша даже имени его не упоминала, и старики, пожалуй, именно по ее упорному молчанию догадались, что эта милая и красивая женщина все еще любит мужа. Они по-своему старались сохранить ее тайну; даже между собой не говорили о докторшином муже, но каждый из них знал, что оба они боятся за Пирошку. Так было до тех пор, пока Андришка не объявился самолично.
Когда прошел слух о выезде четы Прохоцки, доктор прислал жене цветы, затем пригласил ее в кино, в театр, водил ужинать в изысканные рестораны. Молодая женщина становилась все рассеяннее. Возвратясь домой из больницы, она забиралась с ногами на кушетку, дымила сигаретой, и по лицу ее пробегала светлая улыбка, как отблеск зимнего солнца по замерзшему оконному стеклу. Как-то раз она постучала к старикам. «Каци шлет вам самый сердечный привет, — сказала она с робкой улыбкой. — Ему хотелось бы нанести вам визит».
Доктор Браниско начал с того, что почтительно поцеловал Ирме руку. Затем отвесил ей пару неуклюжих комплиментов, чем окончательно сразил ее наповал; даже обе родинки на лице у нее вспыхнули и красными сигнальными кнопками горели весь день. «Изумительно!» — повторял доктор, разгуливая по квартире. Все ему нравилось.
— Это, и это, и вот это, — говорил он, указывая на мебель. — А вон та лампа, смею заверить, — свидетельство абсолютного вкуса.
Ирма блаженно выслушивала его похвалы, Прохоцки же устранился от этих разговоров, а докторша молча сидела в углу, играла прядями своих длинных, красиво вьющихся темно-каштановых волос, попыхивала сигаретой, будто не понимала, о чем речь. Однако в ее темных лучистых глазах слабым огоньком вспыхивал стыд, когда муж чересчур беззастенчиво расхваливал какой-нибудь предмет обстановки.
— Какой великолепный столик! Это же настоящее барокко! Я бы купил его, если Пирошка не против, можно было бы поставить у кровати.
Докторша промолчала, из чего старики сделали вывод, что супруги помирились и собираются после их отъезда поселиться здесь вместе.
В результате обхода доктор изъявил готовность приобрести обстановку всю целиком и даже вытащил бумажник, чтобы внести задаток. Прохоцки почувствовал, что у него так и просится на язык язвительное замечание. «Глубокоуважаемый господин доктор, — хотел он сказать, — я ведь не торгаш, которому принято выплачивать аванс!» Но Ирма, чутко улавливавшая в муже любое бунтарское поползновение, поспешила вмешаться, прежде чем Прохоцки успел раскрыть рот.
— Я думаю, мы сойдемся, дорогой господин доктор, — расплывшись в улыбке, сказала она. — А пока что столько дел надо уладить, что я вообще не знаю, уедем ли мы когда-нибудь. По разным учреждениям еще ходить и ходить…
— Почему же вы раньше-то не сказали? — всплеснул руками доктор Браниско. — Или хоть бы через Пирошку передали! Я целиком и полностью в вашем распоряжении и счастлив буду помочь вам своими знакомствами.
Этим доктор окончательно свел Ирму с ума. Она прошла с ним в комнату Пирошки, где за разговором выяснилось, что и в совете, и в налоговом управлении или в любом другом нужном месте у доктора есть либо добрый знакомый, либо бывший пациент, которому он когда-то делал операцию; часть забот-хлопот он тотчас и переложил на свои плечи. Они с Ирмой пошептались еще с полчасика, а затем молодая пара откланялась: им пора было отправляться в театр.
Однако в квартире и после их ухода слышались отголоски энергичной расторопности Андришки и его повелительного тона.
Старики не заговаривали между собой. Даже глаза их старались избегать друг друга, а взгляды трепетали, как зверьки, боящиеся один другого. Ужин тоже проходил без слов, хотя за их молчанием скрывался оживленный обмен мнениями, и Ирма, допив последний глоток чая, укоризненно покачала головой:
— А теперь тебе именно это не нравится? Я не понимаю тебя, мой Михай.
Прохоцки закурил обязательную после ужина сигарету и оставил ее слова без ответа.
— Человек нам только добра желает, причем совершенно бескорыстно, а ты чуть не испепелил его взглядом! — продолжала жена.
Прохоцки молча смотрел перед собой.
— Уму непостижимо! — вздохнула Ирма. — Что же нам делать со всей этой мебелью?
— А ничего не делать, — проговорил наконец муж. — Попросим докторшу постеречь квартиру и уедем.
На докторшу можно положиться, аргументировал свою позицию Прохоцки, это уже однажды проверено. Продавать мебель не имеет смысла, ни поштучно, ни всю целиком, ведь деньги все равно нельзя взять с собою. Банковский вклад — дело ненадежное, деньги постепенно обесцениваются. А так по крайней мере, если они вернутся, все будет в целости.
— Ты собираешься вернуться? — в полном изумлении уставилась на него Ирма. — И когда же?
— Пока не знаю.
— А для чего ты хочешь вернуться?
— Над этим я еще не задумывался, — сказал Прохоцки.
— И все-таки чем ты собираешься заняться, если мы вернемся?
— И этого я не знаю, — признался Прохоцки.
— Ну что ты за человек! — всплеснула руками жена. — Ecли ты рассчитываешь вернуться, зачем тогда вообще уезжать, скажи на милость!
Она зашлась кашлем и больше не смогла говорить. Пришлось поспешно уложить ее, укутать пледом и отпоить успокоительными каплями… Прохоцки пристроился на краю кушетки, грея ладонями холодные руки Ирмы, и дал себе зарок отныне ни в чем не перечить ей. Этого зарока он не нарушил.
На другой день он хотел подержать Ирму в постели, но та проснулась бодрая и в хорошем настроении. Попросила шофера такси снести чемоданы вниз и отправилась в таможенное управление. Прохоцки хотел было сопроводить ее, но она решительно воспротивилась.
Укладывала вещи она тоже сама, а мужу не позволила даже заглянуть в чемоданы: взять с собой белья и одежды разрешалось только на пять тысяч форинтов, но когда такси помчало ее к таможне, то в три объемистых чемодана было втиснуто барахла на сумму, по меньшей мере трижды превышающую указанную. Прохоцки — если бы он вообще пошел на такого рода махинацию — стоял бы перед таможенниками, дрожа каждой клеточкой своего существа. Ирма же перешагнула порог таможенного управления абсолютно бесстрастно, всем своим видом внушая уважение.
В процедуре принимали участие таможенный инспектор, оценщик и канцелярист. Инспектор поднимал высоко вверх каждую вещь по отдельности и тряс ее в воздухе, чтобы оценщик мог как следует рассмотреть. Ко второму чемодану еще и не приступали, а до предельной суммы было уже рукой подать.
Женщина не говорила ни слова. Ей было как бы безразлично, какими предметами туалета размахивает в воздухе таможенный инспектор и какую сумму называет оценщик. В просторном пакгаузе царила тишина, и в тишине раздавалось лишь ее тяжелое, булькающее дыхание — печальный аккомпанемент сердечной болезни. Шестнадцать раз в минуту повторялся этот удушливый хрип; в интервалах между вдохами трое мужчин, нервно зажмурившись, ждали очередного.
Через какое-то время стало очевидно, что инспектор начинает спешить. Работе его уже недоставало прежней основательности; к примеру, кальсоны Михая Прохоцки он лишь поднял, но не размахивал ими столь энергично, как другими вещами. Еще несколько хлюпающих вздохов ему удалось выдержать, но затем он вдруг досадливо крякнул и захлопнул крышку чемодана.
Когда три свинцовых пломбы заняли свои места, Ирма Прохоцки с сильной одышкой, но зато с довольным выражением лица удалилась из пакгауза. Чемоданы остались на хранении у таможенников, а она вернулась домой и с аппетитом пообедала.
Скорый поезд «Прага — Берлин — Гамбург» отходил с Восточного вокзала в девять двадцать вечера. Супруги Прохоцки взяли билеты на пятницу; вечером, накануне дня отъезда, докторша, которая частенько прибегала к снотворным, дала хозяевам несколько таблеток успокоительного. Ирма приняла лекарство, а Прохоцки не стал. Сон, правда, быстро сморил его, но в полночь он проснулся и так и не смог больше уснуть.
Была морозная, ясная, лунная ночь, такие ночи обычно бывают в феврале, суля наступление теплого, погожего дня. Голубоватый свет мягко сочился с улицы сквозь ажурную сетку штор, пробуждая от сна все, что было в комнате светлого. Белели наволочки и пододеяльники, скатерть, кружевные чехлы на спинках стульев в стиле бидермейер и белоснежная печь из майолики в углу комнаты. Напольные старинные венские часы пробили четверть пополуночи, и опять всю квартиру затопила тишина.
Комната уже выстыла, и Прохоцки натянул одеяло до самого подбородка, но даже под одеялом его пробирала, дрожь. «Мы будем счастливы видеть дорогих папу и маму, — писал Миши, — и постараемся обеспечить максимально хорошие условия, хотя здесь, в Австралии, культурная жизнь — скажем, театры, кафе, светское общение — отстает от той, что на родине. При других обстоятельствах нас ничуть не