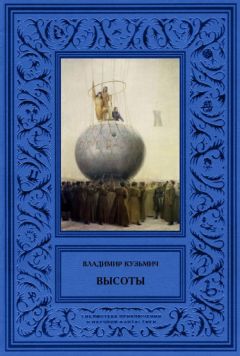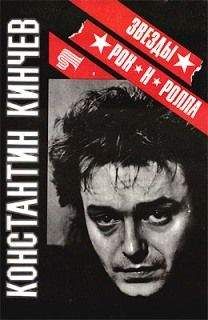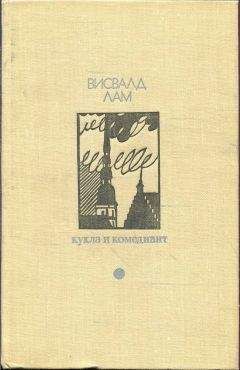Милан Кундера - Неведение
Чувствуя, что ей не совладать с усталостью, она готова сделать все что угодно, лишь бы взбодрить себя. И потому, хоть он и наблюдает за ней, она осушает третью бутылочку, затем, словно объясняясь, словно извиняясь, она повторяет, что давно не занималась любовью, но на сей раз выражает это грубыми словами своей родной Итаки, и снова магия бесстыдства возбуждает Йозефа. Он снова овладевает ею.
В голове Ирены алкоголь играет двойную роль: высвобождает ее воображение, поощряет ее дерзость, обостряет ее чувственность и в то же время затуманивает ее память. Она отдается любви неистово, вожделенно, и в то же время завеса забвения окутывает ее похотливость все затмевающим мраком. Как если бы поэт писал свою величайшую поэму мгновенно исчезающими чернилами.
48
Мать вставила диск в большой проигрыватель и нажала несколько кнопок, отобрав свои любимые мелодии, затем погрузилась в ванну и через открытую дверь стала слушать музыку. Это был ее личный выбор, четыре танцевальные мелодии: танго, вальс, чарльстон, рок-н-ролл, которые благодаря технической изощренности проигрывателя повторялись до бесконечности без какого-либо вмешательства. Она встала в ванне, долго мылась, вышла из воды, вытерлась, надела пеньюар и пошла в гостиную. Затем после затянувшегося обеда с какими-то проезжавшими через Прагу шведами явился Густав и спросил, где Ирена. Мать ответила (смешивая плохой английский с упрощенным ради него чешским): — Она звонила. Вернется не раньше вечера. Как ты пообедал?
— Слишком плотно.
— Тогда прими для пищеварения. — И она налила ликер в две рюмки.
— Вот от этого я никогда не откажусь! — воскликнул Густав и выпил.
Мать, насвистывая мелодию вальса, завертелась, покачивая бедрами; затем, не говоря ни слова, положила руки на плечи Густава и сделала с ним несколько танцевальных па.
— Ты в восхитительном настроении, — заметил Густав.
— Верно, — ответила мать, двигаясь столь подчеркнуто театрально, что и Густав стал выделывать утрированные па и жесты, сопровождая их короткими взрывами смущенного смеха. Он согласился участвовать в этой пародийной комедии, чтобы доказать, что готов поддержать любую шутку и одновременно напомнить с робким тщеславием, что когда-то был, да и остался, отличным танцором. Мать, танцуя, подвела его к большому настенному зеркалу, и они оба, повернув головы, уставились на себя.
Потом она отпустила его, и они, не касаясь друг друга, стали импровизировать движения, глядясь в зеркало. Густав изображал танец жестами и так же, как она, не отрывал глаз от их отражения. Именно тогда он увидел, как рука матери ложится на его межножье.
Развернувшаяся сцена свидетельствует об извечной ошибке мужчин, которые, присвоив себе роль обольстителей, принимают в расчет только желанных женщин; им и невдомек, что уродливая, или старая женщина, или просто такая, что находится вне их эротического воображения, может захотеть обладать ими. Спать с матерью Ирены было для Густава делом настолько немыслимым, фантастическим, нереальным, что он, ошарашенный ее прикосновением, не знает, как поступить: первый его порыв — отвести ее руку; и все-таки он не решается; с ранней юности в нем запечатлена заповедь: не поступи грубо с женщиной; и потому, остолбенело глядя на руку промеж своих ног, он продолжает танцевальные движения.
Держа руку на его межножье, мать, покачиваясь, топчется на месте, по-прежнему глядясь в зеркало; потом пеньюар приоткрывается, и Густав видит пышную грудь и внизу черный треугольник; в замешательстве он чувствует, как напрягается его член.
Не отрывая взгляд от зеркала, мать наконец убирает руку, но лишь затем, чтобы запустить ее внутрь брюк и ощутить пальцами голый член. Он твердеет все больше, и она, продолжая свои танцевальные движения и не отрываясь от зеркала, восхищенно восклицает вибрирующим контральто: — О-о-о! Невероятно! Невероятно!
49
Предаваясь любви, Йозеф украдкой не раз поглядывает на часы: еще два часа, еще полтора часа; эта послеполуденная любовь завораживает, он не хочет терять ни крупицы, ни одного жеста, ни одного слова, но конец близится неотвратимо, и он должен следить за ускользающим временем.
Она тоже думает об убывающем времени; ее беспутство становится все торопливей, все лихорадочнее, она говорит, перескакивая с одной фантазии на другую, сознавая, что уже слишком поздно, что это безумие близится к концу и что ее будущее остается пустынным. Она произносит еще несколько грубых слов, но произносит их в слезах, затем, сотрясаемая рыданиями, обессиливает, перестает двигаться и сбрасывает его со своего тела.
Вытянувшись, они лежат рядом, и она говорит: — Не уезжай сегодня, останься еще.
— Не могу.
Долгое время она молчит, потом: — Когда я тебя опять увижу?
Он не отвечает.
С внезапной решимостью она поднимается с кровати; она больше не плачет; стоя лицом к нему, она говорит без всякой сентиментальности, с неожиданной агрессивностью: — Поцелуй меня!
Смешавшись, он продолжает лежать.
Она неподвижно ждет, устремив на него пристальный взгляд, отягощенный грузом жизни без будущего.
Не в силах выдержать ее взгляд, он уступает: встает, приближается к ней, губами касается ее губ.
Она ощущает вкус его поцелуя, определяет всю меру его холодности и говорит: — Ты плохой!
Затем отворачивается к своей сумке, лежащей на ночном столике. Вынимает из нее маленькую пепельницу и показывает: — Узнаешь?
Он берет пепельницу и разглядывает.
— Узнаешь? — строго повторяет она. Он не знает, что и ответить.
— Прочти надпись!
Это название пражского бара. Но оно ничего не говорит ему, и он молчит. Она наблюдает его растерянность, внимательно, недоверчиво, все более и более враждебно.
Он чувствует себя неловко под этим взглядом, и тут же, мгновенно, перед глазами мелькает образ окна, горшок с цветами и зажженная лампа на подоконнике. Но образ сразу исчезает, и перед ним вновь враждебные глаза.
Она все поняла: дело не только в том, что он забыл их встречу в баре, истина пострашней: он не знает, кто она! он не знает ее! в самолете он не знал, с кем говорил. И тут вдруг ее осеняет: он ни разу не назвал ее по имени!
— Ты даже не знаешь, кто я!
— Как это? — говорит он с отчаянной неловкостью.
Она говорит ему голосом следователя: — Тогда назови мое имя! Он молчит.
— Как меня зовут? Скажи мне мое имя!
— Какой прок в этих именах!
— Ты ни разу не назвал меня по имени! Ты меня не знаешь!
— Как это?
— Где мы познакомились? Кто я?
Он пытается ее успокоить, берет за руку, но она отталкивает его.
— Ты не знаешь, кто я! Ты подцепил незнакомку! Ты занимался любовью с незнакомкой, которая предложила себя тебе! Ты воспользовался недоразумением! Ты обладал мною как шлюхой! Для тебя я была шлюхой, незнакомой шлюхой!
Она бросается на кровать и плачет.
Он замечает три пустые, брошенные на пол бутылочки из-под алкоголя: — Ты слишком много выпила. Глупо было столько пить!
Она не слушает его. Лежит плашмя на животе, тело сотрясается в судорогах, в голове лишь ее грядущее одиночество.
Затем, словно сраженная усталостью, она перестает плакать, переворачивается на спину, не осознавая, что ноги ее небрежно раздвинуты.
Йозеф стоит в изножье кровати; он смотрит на ее лоно, словно смотрит в пустоту, и внезапно видит кирпичный дом с пихтой. Смотрит на часы. В гостинице он может оставаться еще полчаса. Надо одеться и найти способ заставить одеться и ее.
50
Когда он выскользнул из ее тела, они умолкли, и слышны были лишь четыре бесконечно повторяемые мелодии. После долгой паузы мать проговорила на своем чешско-английском четким, чуть ли не торжественным голосом, словно перечисляла статьи договора: — Мы оба, ты и я, люди сильные. We are strong. Но мы и добрые, good, мы не причиним никому зла. Nobody will know. Никто ничего не узнает. Ты свободен. Ты можешь, когда тебе захочется. Но ты не обязан. Со мной ты свободен. With me you are free!
На сей раз в ее словах не было ни следа пародийной игры, ее тон был донельзя серьезным. И Густав, тоже серьезно, отвечает: — Да, я понимаю!
«Со мной ты свободен» — эти слова долго звучат в нем. Свобода: он искал свободу в ее дочери, но не нашел. Ирена отдалась ему со всеми тяготами своей жизни, в то время как он мечтал жить без тягот. Он искал в ней избавление, а она возвышалась перед ним как вызов; как ребус; как подвиг, требующий свершения; как судья, требующий противостояния.
Он видит тело новой любовницы, поднимающейся с дивана; она стоит, открывая взору свое тело со спины, мощные ляжки, покрытые целлюлитом; этот целлюлит восхищает его, будто он отражает жизненную силу кожи, что колышется, трепещет, говорит, поет, дрожит, выставляет себя напоказ; когда она наклоняется, чтобы поднять с пола пеньюар, он не в силах удержаться и, вытянувшись нагишом на диване, ласкает изумительно выпуклые ягодицы, ощупывает эту монументальную, сверхобильную плоть, чье великодушное расточительство утешает его и умиротворяет. Его охватывает чувство покоя; впервые в жизни сексуальность проявляет себя вне всякой опасности, вне конфликтов и драм, вне всякого преследования, вне всякого комплекса вины, вне треволнений; он не должен ни о чем заботиться, это сама любовь заботится о нем, любовь, такая, какой он жаждал и какой еще ни разу не изведал: любовь-отдохновение; любовь-забвение; любовь-отречение; любовь-беспечность; любовь-необремененность.