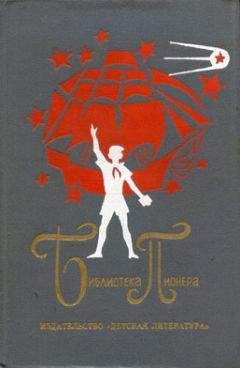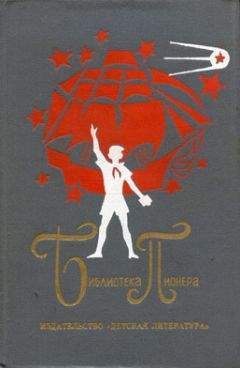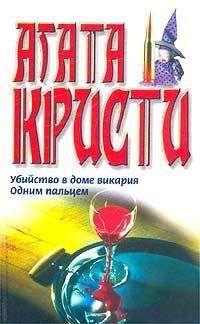Фридрих Горенштейн - Чок-чок. Философско-эротический роман
Выйдя из магазина минеральных вод, Каролина со спутниками вошла в толчею Елисеевского магазина. Курчавый и атлет словно несли ее, загораживая локтями и плечами от толпы, к которой, увы, принадлежал и Сережа. Они несли ее из отдела в отдел, от колбасного отошли с промасленным жирным пакетом, от винно-водочного с желтой бутылкой лимонной водки, потом протаранили толпу на пути в хлебный и вывалились с белым батоном через боковую дверь в переулок. Из переулка опять на улицу Горького, пересекли Пушкинскую площадь и свернули на Большую Бронную.
На Каролине сегодня было узкое, обтягивающее балетную фигуру, темно-красное шелковое платье, ножки ее ступали, обутые в красные на высоком тонком каблучке туфельки. Почему-то вспомнились уродливые белые босоножки, брошенные по дуге на газон, вспомнился семейный сюрреализм, в стиле которого живут миллионы. «Неужели и я буду когда-нибудь так жить, скучно и несчастливо? – с отчаянием подумал Сережа. – Нет, такая жизнь теперь для меня невозможна… Лучше умереть…»
Каролина со своими спутниками зашла на маленький рыночек, расположенный у Бронной. В прохладном гулком пустом павильоне пахло сушеными грибами и солениями. Сережа, спешивший следом, вначале вновь потерял их из виду, но потом увидал в дальнем конце, где Каролина, курчавый и атлет ели моченые яблоки, купленные у торговавшей ими толстой бабы. Сережа смотрел на всю эту чужую, радостно аппетитную жизнь издали; в полупустом павильоне его легко можно было заметить, а к этому Сережа был не готов, этого он еще опасался. Чего он хотел? Ничего. Просто смотреть на Каролину, просто видеть ее. Впрочем, она вероятно его и не помнила; видела мельком тогда на обеде, мало ли кто мимо нее мелькает… Действительно, она прошла совсем близко от Сережи и не заметила. Или не узнала. Выйдя из рыночного павильона, Каролина, атлет и курчавый подошли к стоянке такси и вскоре они окончательно унеслись вниз по Тверскому бульвару. «Глупо как! – подумал Сережа. – Зачем я шел сзади, зачем следил, как шпион? Более я никогда так…»
На следующий день в это же время он, однако, был возле хореографического училища, прогуливался взад-вперед от знакомого уже скверика и обратно. Было по-прежнему солнечно, но стало прохладней и окна оказались закрыты, музыки было не слышно. Лишь приглядевшись, можно было различить в классах обнаженные руки, обнаженные плечи, двигающиеся в заданном ритме.
Когда репетиция кончилась, Каролина опять вышла с курчавым. Сегодня по случаю прохладной погоды она была одета потеплей, спортивно-фольклорно. На ней был серый, домашней крупной вязки пуловер, из-под которого видна была полотняная вышитая рубаха, серая широкая юбка, желтые по щиколотку сапожки. Поверх пуловера – коротенькая, на меховой подкладочке, безрукавка, через плечо зелено-коричневая ковровая сумка. Курчавый же был одет, как и вчера, в ширпотребовский пиджак, похожий, кстати, на Сережин.
Не дожидаясь на этот раз атлета, Каролина и курчавый вдвоем пошли вниз по крутой улице. Ноги сами понесли Сережу следом. Повторялось вчерашнее. Опять была шумная площадь перед Большим театром, опять Сережа отстал, опять приходилось бежать на красный свет, опять идти вверх по улице Горького до магазина минеральных вод. Но на этот раз Каролина с курчавым сюда не зашли, миновали и Елисеевский, пересекли Пушкинскую площадь и здесь вдруг деловито даже, как показалось Сереже, холодно расстались. Да и говорили на этот раз мало и почти не смеялись. Курчавый перед расставанием лишь чмокнул Каролину в щеку и ушел в метро, оставив ее одну. Она глянула на свои ручные часики, вошла в будку телефона и тотчас же Сережей овладела такая робость, что захотелось пройти мимо, потерять Каролину из виду, успокоить дыхание, утишить сердце… Но он продолжал униженно стоять, обливаясь потом, несмотря на прохладную погоду. Он видел, как Каролина говорит по телефону, поворачиваясь то в профиль, то спиной и уже решил в этот момент, когда она повернется спиной, пройти мимо, незамеченным. Но все стоял, а когда она выходила из телефонной будки, придерживая дверь и пропуская в нее какого-то пожилого мужчину, он в отчаяньи приблизился под тревожный, барабанный бой сердца и сказал: «Здравствуйте, Каролина!»
Взгляд Каролины стал настороженным, удивленным.
– Вы меня не помните? – торопливо и как бы сам собой произнес Сережин голос, – у Алеши Кашеварова-Руднева… Вы с его сестрой приходили, с Сильвой…
– Серьожа! – воскликнула Каролина, – это вы, Вертер, да!… Здравствуйте, Серьожа, что вы здесь поделываете?
– Я случайно проходил… Гулял и вот, заметил вас.
– У вас есть время гулять? Я вам завидываю. Правильно? Завидываю?
– Завидую, – улыбнулся Сережа.
– Да, завидую, – Каролина засмеялась.
Засмеялся и Сережа. Теперь уж у него было право смеяться вместе с Каролиной, как вчера смеялись атлет и курчавый. Место было людное, прохожие вокруг шли густо и Сережа уже прикрывал, уже огораживал Каролину от постороннего напора, как это делали вчера атлет и курчавый, уже ощутил он счастливую свою близость к ней, недоступную иным, как недоступна она была и ему минуту-другую назад. Он вдруг почувствовал, что счастье, которое он вынашивал и вымаливал все эти дни, а может быть, вынашивал и вымаливал давно, с раннего молочного младенчества, с первого глотка воздуха, – счастье, молчаливое, как икона, когда-то висевшая в углу няньки Дуни, – это счастье откликнулось вдруг, обрело голос и пошло рядом с Сережей.
– Пойдем или поедем? – спросил Сережа.
– Пойдем, – сказала Каролина, – я мало бываю на воздухе… Погода превосходная. Превосходная – правильно? Трудное русское слово…
Она засмеялась. Смеялась она ослепительно.
– Немного ветренно, – сказал Сережа, чтоб только не умолкать, чтоб говорить и говорить с Каролиной.
– Ветренно? Но это на мне теплое. Это, без рукавов… Это правда баран.
– Какой баран? – засмеялся Сережа.
– А, это смешно… Это по-русски смешно. Правда баран – так по-чешски называется натуральный мех.
– Натуральная цигейка?
– Да, да… У нас в магазинах на шапках или шубах везде написано: правда баран.
Они говорили и смеялись без умолку, пока шли кружным путем, сначала вниз, к площади Восстания, по грохочущей широкой улице, а затем тихими арбатскими переулками.
– Здесь мы познакомились, – сказала Каролина, останавливаясь и указывая на старый серого цвета пятиэтажный дом, видневшийся вдали на противоположной стороне улицы, дом, где была квартира Кашеваровых-Рудневых.
Она указала пальчиком в глубину улицы, и Сережа вдруг смело наклонился и поцеловал этот указательный бело-розовый, как конфетка, пальчик. Каролина посмотрела на Сережу притворно строго, но глаза ее лучились, глаза играли, ласкали и миловали.
– Ты часто влюблялся, Серьожа? – спросила она.
– Нет, один раз, в детстве.
– О, детская, чистая любовь к девочке!… Клятва верности, да? И чем это заканчивалось?
– Ничем. Я выпил бутылку чернил.
– Чернила? Почему ты напился чернилом? Обычно напиваются ядом. Напиваются – правильно я говорю?
– Если б я выпил яд, то не встретил бы тебя. Это Бог помог.
– Бог? Ты верующий?
– Нет, но теперь может поверю.
Все произошло неправдоподобно быстро, все оправдало самое несбыточное.
«Вот почему говорят о любимой женщине: неземная, – с радостным трепетом думал Сережа. – Когда спокойное сиянье твоих таинственных лучей… Лишь теперь становятся по-настоящему понятны эти пушкинские строки… Что вы, восторги сладострастья, пред тайной прелестью отрад прямой любви, прямого счастья… Да, прямая, но неземная любовь…»
Уже в ресторане, за столиком, он заметил в Каролине и незначительные штрихи земного – три маленьких, красноватых прыщика на белой шейке, недалеко от розового ушка с поблескивающим камушком. Все остальное, однако, осталось неземным. За спиной у Каролины было зеркало, точнее зеркальная стена, и Сережа мельком все поглядывал в эту стену, где Каролина видна была сзади – хрупкие женственные плечи, прямая женственная спина. «Я люблю ее всю, – блаженно думал Сережа, – а вместе с ней всю Вселенную от края и до края… Как хорошо жить, как хорошо!»
В ресторане «Прага» Каролину знали. Видимо, она здесь часто бывала. Официант поздоровался с ней, как со знакомой, указал удобный отдельный столик и быстро принес заказанное Каролиной «рожничи» – жареное свиное мясо, посыпанное мелконарезанным сырым луком – и бутылку легкого чешского вина.
– Ты, Серьожа, можешь взять себе чешские кнедлики из творога. Очень вкуснятина. Мне жаль, нельзя из-за фигуры, но у нас есть тапёр, играет на репетиции, так он всегда берет две порции. «Это тот курчавый», – подумал Сережа и ревность заныла в его нутре, мгновенно набрав чрезвычайную силу.
– Что же он играет? – спросил Сережа, чтоб нейтральным вопросом остановить растущую тоску ревности.