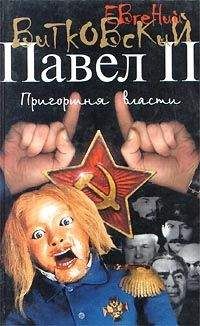Иванна Жарова - Изамбар. История прямодушного гения
В епископе снова проснулось желание спорить.
– Почему тишина, Изамбар? Если уж на то пошло, в начале был звук – вот как должно звучать исповедание веры музыканта. По логике и по аналогии с геометрией. – Казалось, монсеньор Доминик подражал манере самого Изамбара.
Математик покачал головой:
– Нет, Доминик. В Начале была Тишина…
– Но почему, Изамбар?
– Тишина всегда звучит. – Светло-карие глаза заблестели, и зрачки в них вдруг расширились. – Когда молчим мы и наши мысли, мы слышим, как звучит Вселенная. Это вибрации, о которых я говорю тебе. Земля, светила, созвездия, планеты, даже те из них, что кажутся безжизненными и мертвыми – все звучит. Абсолютной тишины не существует. Кто этого не знает, тот просто никогда не молчал по-настоящему. Тишина – Матерь Мира, священное Лоно, из которого рождается поющая Вселенная. Тишина – Тайна.
– Тишина подобна точке вне времени, в которой заключено все? – спросил монсеньор Доминик.
Изамбар не ответил. Он лишь снова качнул головой, загадочная улыбка на его тонко очерченных губах окрасилась печалью и, как показалось епископу, сожалением.
– Очевидно, ты мог бы еще сказать, что тишина несравненна и неизреченна. Но не скажешь. Ведь об этом тоже следует молчать. Как же иначе приблизиться к тайне тишины, если не через молчание? – монсеньор Доминик говорил все увереннее, как будто и вправду проникаясь логикой вдохновенного мистика, говорил без всякого вызова и даже подтекста и вдруг оборвал себя, горько и болезненно уязвленный внезапной мыслью.
– Зачем ты пел, Изамбар? – спросил он совсем другим, резким, мгновенно охрипшим голосом. – В прошлом году, в Пасхальное Навечерие? Твой дрянной приятель выдал и предал тебя, но все же тогда ты еще мог отказаться, пока никто в этом аббатстве не слышал, как ты поешь. Тогда, но не после. Ты же бросил вызов своим пением и своим троекратным отказом повторить его! Ты, с твоим умом, не мог не понимать, что твой настоятель не упустит повода сравнять тебя с землей! Почему ты пел, Изамбар? Скажи мне правду!
– Мы заранее условились не обсуждать мое прошлое и мои поступки, – в очередной раз невозмутимо напомнил математик.
– Я не выведываю твоих секретов, – веско и почти грубо сказал епископ. – Я лишь хочу понять мотивы поступка, с последствиями которого имею дело. Это касается и меня. Если ты откажешь мне в ответе, я сделаю свои собственные выводы. Я полагаю, между твоими теориями и твоими делами, твоими словами и твоим молчанием есть связь. Мне важно установить ее. Итак, ответь мне, Изамбар, будь любезен: зачем ты сделал это? Твой отказ отвечать для меня означает лишь то, что ты бросил свой вызов нарочно.
– Нарочно? – переспросил Изамбар, казалось, с неподдельным удивлением, на которое монсеньор Доминик, однако, и не подумал купиться, уверенный в своей догадке.
– Нарочно, – повторил епископ ледяным тоном, – по трезвому расчету. Потому что теория нуждается в практике, а предположения требуют подтверждений. Ты сам проговорился. «Раньше я лишь догадывался… теперь знаю», – сказал ты. Я слушал тебя внимательно; я ничего не пропустил мимо ушей. «Тайна», «Тишина», «Молчание»… И еще «страдание и смерть» в качестве условия. Говорят, с братьями ты был немногословен. Семь лет наедине с книгами, в четырех библиотечных стенах, среди монахов, которые все как один до сих пор гадают, откуда ты родом и на каком языке лепетал в младенчестве, – куда уж тише, молчаливей и таинственней! Но тебе и этого показалось мало. Очевидно, рыцарь Тишины в молчании должен быть непревзойденным мастером. А в любом искусстве необходимо совершенствоваться. И ты не упустил такой возможности. Тут твои интересы совпали с интересами отца настоятеля. Благо у него никогда не хватит ума даже предположить подобную вероятность! А вот я, похоже, несколько спутал твои планы. Я не дал тебе ни сгнить заживо, ни умереть под плетьми. И самое главное – ты говоришь со мной, что уже само по себе не вполне соответствует твоим идеям и теориям. Раз уж ты решился на это, Изамбар, почему бы тебе не пойти до конца? Неужели тебе так приятно, когда окружающие ломают голову над твоими секретами и загадками?
И в третий раз математик покачал головой.
– Ты ошибаешься, Доминик, – произнес он с обезоруживающей мягкостью, особенно выразительной по контрасту с резкостью епископского тона. – В твоих рассуждениях есть логика. Но в поступке, о котором ты спрашиваешь, ее нет. В том-то и дело! Я не хотел тебя разочаровывать. И не хотел отвлекаться от темы. Но если ты настаиваешь… Все гораздо проще, Доминик. Меня попросили петь, и я согласился, потому что я и сам этого хотел. Я люблю петь, Доминик. Вот и все.
– Любишь? – в свою очередь изумился епископ, отказываясь верить собственным ушам. – Но, Изамбар, помилуй! Это просто глупо!
– В любви ум никак не участвует, Доминик. Любят сердцем. Я не пел семь лет. Вернее, семь лет я пел во сне, пел мысленно, пел шепотом, пел про себя… Мне дорого это стоило.
– Дороже, чем яма и плети?
– Тебе не понять меня, Доминик. – В прозрачно-ясном взгляде Изамбара отразилось сочувствие, почти сострадание, словно собеседник его был калекой, лишенным полноты бытия. Епископ почувствовал себя уязвленным.
– Потому что я не музыкант? – спросил он с вызовом.
– Потому что ты не любил, – ответил Изамбар тихо и печально, глядя прямо в глаза монсеньору Доминику, и тот, вопреки своему желанию возмутиться и защищаться, потупился и уставился в пол у себя под ногами.
– Я был бы счастлив петь и во второй, и в третий раз, поверь мне, – продолжал Изамбар с пронзительной печалью. – Я пел бы и был бы счастлив, если бы можно было быть счастливым, делая несчастным другого. Тебе, разумеется, рассказали… Ты знаешь, о ком я. Давай оставим это, Доминик. Прошу тебя. Вернемся лучше к моей модели Вселенной. Если ты, конечно, хочешь…
– Хочу, – выговорил епископ через силу, после паузы, ошеломленный и вконец потерянный. Он видел искренность и печаль в глазах Изамбара, слышал муку в его голосе, видел, слышал и не мог отрицать… Как бы ему того ни хотелось. А отрицать эту муку и эту печаль было бы таким успокоением! Ведь они никак не вязались ни с блестящей логикой геометра, ни с его детским легкомыслием и, казалось, вечной, неутомимой готовностью искать и находить поводы для смеха. Такой муки не было в хрустальном голосе Изамбара даже тогда, когда он говорил о своем нежелании разделять неделимого Бога. Неужели в самом деле за сочувствие к какому-то бездарному органистишке, снедаемому собственными амбициями, можно не поскупиться заплатить такую цену, на которую согласился этот человек? За сочувствие к бездарному музыканту и любовь к музыке… Такие мотивы монсеньору Доминику были понятны еще в меньшей степени, чем злополучное Filioque! Но Изамбар не лгал. Он все еще смотрел на епископа своими большими печальными глазами с неопровержимой, берущей за сердце ясностью. И эта ясность, как и прежде, помогала ему ловить налету епископские мысли и сомнения.
– Видишь ли, Доминик, – сказал Изамбар примирительно, как бы извиняясь перед несведущим собеседником за свое скорбное многознание, – музыканты слушают Тишину. И слышат в ней музыку Вселенной. Они цитируют ее посредством струн, клавиш, голоса, так же как богословы силятся выразить божественный Логос словами человеческих языков. Музыка Вселенной преломляется в восприятии каждого смертного, способного ее улавливать; божественное время просеивается сквозь время людское. Мы выражаем всеобъемлющее движение созидающих мир потоков Жизни в мелодиях, сотканных из нот, выстраиваем вибрации в ритме собственного дыхания, биения сердца, бега крови. И если мы следуем ей в смирении, она сама, эта таинственная Вселенская музыка, ведет нас, учит дышать и двигаться, дает нам ключ к нашему внутреннему времени. Она может сделать нас совершенными. Так верят музыканты. Музыка шлифует и оттачивает наши чувства; музыка дает нам радость без логической причины, в мажорных тональностях, в гармониях, благодатных для слуха, как благодатны для глаза правильные геометрические формы; она своими ритмами развивает в нас чувство времени, без чего наше восприятие осталось бы беспорядочным и неполным. Музыканты благодарны музыке за все эти дары и находят наивысшее счастье, выражая ей свою любовь игрой и пением. Таков самый древний и самый прямой путь к абстрактному, бесконечному, совершенному Богу. Но я ведь уже рассказал тебе мою притчу. Притчу о молчании, расширяющем сердце. Теперь, надеюсь, ты поймешь ее лучше.
Говоря, Изамбар поднялся и отошел к стене напротив. В крохотной келейке ему хватило для этого трех шагов. Монсеньору Доминику опять бросилась в глаза его детская хрупкость, тонкость и абсолютная беззащитность. И епископ вдруг отчетливо понял, что беззащитность эта одной природы со смелостью и свободой мышления; она – оружие Изамбара, как целомудрие – оружие девственниц. Такое оружие, как верят мистики, побеждает нечистых духов, но против земных врагов стоило бы обзавестись чем-нибудь еще. Монсеньор Доминик горько улыбнулся, сознавая, что беззащитность Изамбара отточена так же остро, как его ум, а потому защитить его невозможно в принципе. Именно в принципе – этот человек так создан.