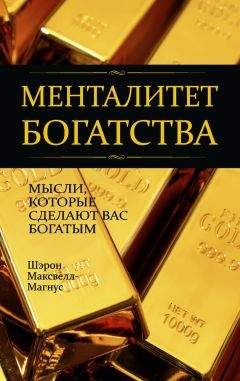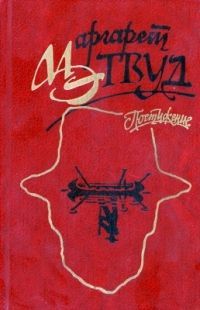Маргарет Этвуд - Мадам Оракул
Что же до Женщины-Горы, я точно знала: после бесстрашного подвига ей пришлось вернуться в шоу чудес, усесться в огромное кресло и снова заняться вязанием на глазах у тех, кто купил билеты. Такова была ее реальная жизнь.
10
Однажды в воскресенье — я уже третий год училась в Брэсандской средней школе — тетя Лу пригласила меня на ужин. Я удивилась: воскресные вечера предназначались для Роберта, бухгалтера учреждения, где она работала. Но тетя сказала:
— Надень что-нибудь красивое, моя дорогая, — и я поняла, что нас собираются познакомить. Ничего красивого у меня не было, но тетя Лу, вполне естественно, этого не замечала. Мой выбор пал на войлочную юбку с телефоном.
Я ждала, что буду ревновать ее к Роберту. Он представлялся мне высоким, властным, несколько зловещим мужчиной, который играет чувствами тети Лу. А тот оказался маленьким опрятным человечком, к тому же щеголем, каких я никогда не видела. Тетя Лу ради него даже прибралась в квартире — в меру своих способностей, конечно: из-под лучшего кресла, в котором, аккуратно потягивая мартини, сидел гость, все-таки высовывался мысок нейлонового чулка.
Тетя Лу нарядилась с ног до головы. Она была вся обвешана украшениями; запястья позвякивали; от нее исходили облака ароматов «Южного моря». Тетя Лу суетилась, завершая убранство праздничного стола, и казалось, что с каждой секундой она теплеет и расширяется, все больше заполняя собой комнату. Роберт наблюдал за ней, как за умопомрачительным закатом. Я подумала: а на меня когда-нибудь будут вот так смотреть?
— Уж и не знаю, что твоя тетя нашла в таком старом сухом сучке, как я, — сказал Роберт, вроде бы мне, но на самом деле тете Лу.
— Не слушай его, дорогая, — вскричала тетя, — в душе это настоящий дьявол.
После того как мы покончили с шоколадным муссом, тетя Лу вдруг спросила:
— Джоан, деточка, мы хотели спросить… Ты не хочешь сходить с нами в церковь?
Вот так сюрприз. Моя мать посещала церковь из соображений приличия, да и меня подвергла нескольким годам пыток воскресной школой: белые перчатки, круглая темно-синяя фетровая шляпка на резинке, лакированные туфли с перепонкой. Когда я жаловалась на несносную церковную скуку, тетя Лу мне очень сочувствовала. Она тоже изредка водила меня в маленькую англиканскую церковь, но только в пасхальное воскресенье — послушать гимны, как она говорила, и не более того. Теперь же, к моему удивлению, тетя Лу приладила на голову удивительную шляпу, напудрила нос и привычным жестом взяла в руки белые перчатки.
— Это не совсем церковь, — сказала она мне, — но Роберт ходит каждое воскресенье.
Мы поехали на машине Роберта, которую он припарковал в каком-то подозрительном проулке к северу от Куин. Район был жалкий, убогий: старые двухэтажные краснокирпичные дома на две семьи, с портиками; края газонов обрамлены грязноватым снегом. Один дом выделялся среди остальных освещенными окнами с ярко-красными рдеющими шторами. Туда мы и вошли.
В холле на столе, на большом медном подносе, лежала стопка бумаг для записей и несколько карандашей; под столом на газетах сушились боты, галоши, резиновые сапоги. Роберт с тетей Лу написали на листочках цифры, сложили их и оставили на подносе.
— Ты тоже напиши номер, дорогая, — посоветовала тетя Лу. — Вдруг и ты получишь послание.
— Послание? — удивилась я. — От кого?
— Ну, точно знать никогда нельзя, — отозвалась тетя Лу. — Но почему бы не попробовать?
Я решила помолчать и посмотреть, что будет дальше. Мы прошли за занавес из пурпурного бархата и попали в комнату, которая, как позднее выяснилось, называлась часовней. Когда-то это была обычная гостиная, но теперь здесь расставили складные стулья (на каждом лежал сборник гимнов) в пять или шесть рядов. На месте бывшей столовой была устроена сцена, где стояла кафедра для проповедника, накрытая красным бархатом, и небольшой электроорган. Только треть мест была занята; позднее, к началу службы, подошли еще несколько человек; но и потом, сколько я туда ни ходила, ни разу не видела полного зала. Большинство прихожан оказались весьма пожилыми людьми, многих мучил хронический кашель. Тетя Лу и Роберт были здесь среди самых молодых.
Мы сели в первом ряду. Тетя Лy вертелась, как молодая курочка, охорашиваясь и поправляя перышки; Роберт сидел очень прямо, неподвижно. Какое-то время ничего не происходило; сзади шаркали, откашливались. Я открыла тетрадку с гимнами — тонкую, совсем не такую, как в англиканской церкви. «Гимны спиритов» — называлась она; под заголовком был штамп: «Собственность Иорданской церкви». Открыв наугад, я прочла два гимна. Первый — о лодке, в которой так весело плыть через реку на Другую Сторону, навстречу ожидающим тебя любимым людям. Второй — о благословенных душах тех, кто ушел раньше нас, душах, которые пекутся о нас с небес в ожидании нашего прибытия на другой берег. Мне сделалось неуютно. Мало мне Бога, который, как говорили в воскресной школе, наблюдает за нами каждую секунду; так теперь еще за мной будут невесть зачем шпионить какие-то неизвестные личности.
— Что это за церковь? — шепотом спросила я у тети Лу.
— Тише, дорогая, начинается, — безмятежно отозвалась та, и действительно: свет потух, и на сцене появилась низенькая женщина в коричневом вискозном платье, золотых серьгах-пуговицах и с такой же брошкой. Она прошла к органу и заиграла. Вокруг задребезжали голоса, тоненькие, пронзительные, будто сверчки.
Пока исполняли гимн, в дверь, что вела на кухню, вошли двое, мужчина и женщина, и встали за кафедрой. Женщину, как я вскоре узнала, звали преподобная Леда Спротт, она была здесь главная. Немолодая, статная, с голубыми глазами, голубыми волосами и римским носом, она была одета в длинное белое атласное платье; на шее висела вышитая пурпурная лента, похожая на книжную закладку. Мужчина, седой и щуплый, назывался «мистер Стюарт, наш гость-медиум». Позднее я недоумевала: почему гость, если он приходит на все собрания?
Когда нестройный гимн был допет, Леда Спротт воздела над головой руки и сказала глубоким, звучным голосом:
— Помедитируем.
Воцарилась тишина, которую нарушало только чье-то неуверенное шарканье: человек прошел за пурпурный занавес и начал медленно подниматься по лестнице. Леда Спротт произнесла короткую молитву: она просила наших любимых, уже обретших благодать Высшего Света, помочь тем из нас, кто еще вынужден блуждать в тумане этой стороны. Вдалеке зашумела вода в унитазе, и шаги стали возвращаться.
— А сейчас послушаем вдохновенное послание нашего гостя-медиума, мистера Стюарта, — произнесла преподобная Леда и отошла в сторону.
К концу своего общения со спиритами я почти дословно запомнила речь мистера Стюарта: она была всегда одинакова. Он призывал не отчаиваться, говорил, что надежда умирает последней и что темнее всего — перед рассветом. Цитировал «Не говори, борьба напрасна» Артура Хью Клафа:
И на заре не только лишь с востока
К нам в окна проникает свет.
Восходит солнце медленно и так еще далеко,
Но земли запада, гляди, уж озарил рассвет.
И еще одну строчку, из того же стихотворения:
«И коль надежды — глупость, страхи — ложь».
— Страхи и вправду ложь, друзья мои, что, кстати, напоминает мне об одной истории, которую я когда-то слышал. Думаю, она может поддержать всех нас, тех, кто подавлен, кому кажется, что все бессмысленно и борьба бесполезна. Итак: однажды две гусеницы бок о бок ползли по дороге. Гусеница-пессимистка сказала: «Говорят, мы скоро окажемся в узком темном месте, где не сможем ни двигаться, ни даже разговаривать. Там нам придет конец». Гусеница-оптимистка возразила: «Это темное место — всего лишь кокон; мы там отдохнем, а после вылетим наружу. У нас будут красивые крылья; мы станем бабочками и помчимся навстречу солнцу». Как вы понимаете, друзья мои, речь идет о Дороге Жизни. И только мы сами можем решить, кем нам быть — гусеницей-пессимисткой, с тоской дожидающейся смерти, или гусеницей-оптимисткой, полной надежды и веры в лучшую жизнь.
Прихожан отнюдь не смущала однообразность послания. Возможно даже, если бы оно вдруг изменилось, они бы сочли это надувательством.
После мистера Стюарта собрание занимала женщина в коричневом, а потом наконец перешли к серьезным занятиям, ради которых, собственно, все сюда и приходили: к персональным посланиям. Женщина в коричневом внесла медный поднос. Леда Спротт с закрытыми глазами одну за другой брала сложенные листочки, держала, не раскрывая, в руке и произносила послание. Затем раскрывала бумажку и сообщала номер. В основном послания касались здоровья:
— Здесь пожилая дама с седыми волосами, от ее головы идет свет, и она говорит: «Аккуратней на лестницах, особенно по четвергам», и еще повторяет слово «сера». Она велит быть осторожнее и шлет привет и наилучшие пожелания… Мужчина в килте, с волынкой, должно быть, шотландец; рыжий. Говорит, что очень вас любит и советует есть поменьше сладкого, оно вам вредно. Он передает… не могу разобрать. Что-то про коврики. «Осторожнее с ковриками», — вот его слова.