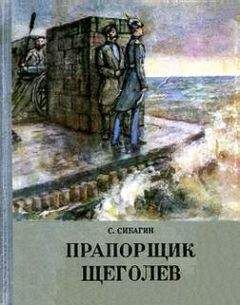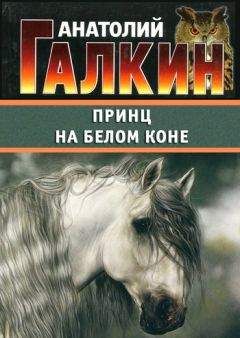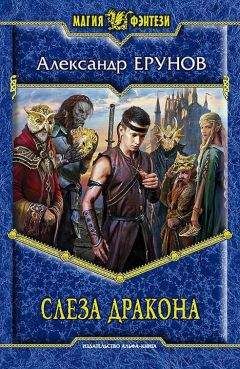Виктор Ерофеев - Бог X.
Я сам не умею петь, ни слуха, ни голоса, но и то что-то там напеваю время от времени, какие-то отрывки любимых мелодий, непонятно почему, впрочем, любимых. Казалось бы, для песни нет никаких разумных оснований. Кроме одного: есть географически неосвоенные, белые пятна существования – их и покрывает собой песня.
В этом я вижу что-то архаическое, если не сказать пещерное. Вроде бы такой жесткий по своей логике народ, как французы, не должен был бы петь, а все равно на свадьбах, где-то в провинции, с красными от вина носами поет. И немцы поют, со своем жестокой сентиментальностью, и итальянцы, известное дело, и африканцы, я сам слышал, в деревнях все время напевают себе под нос, и американцы тоже поют.
Откуда берется? И не лучшее ли это доказательство того, что человек больше, шире заявленной и проявленной своей сущности, раз он с готовностью превращается в старый радиоприемник на лампах и начинает что-то из себя вещать в песенном виде?
Песня, какой бы она ни была, религиозна. Она нас связывает с другими мирами, непонятно какими, и в каждой песне, даже если она про Ленина, есть тоска, мука по утраченной цельности, как будто наша душа рассталась со своей половиной и ищет ее, хочет прилепиться, но не получается. И в счастливый момент жизни, когда, казалось бы, все получилось и жизнь удалась, песня нужна не меньше, чем в тоске, а значит, она еще и благодарность.
Песня, охватив собой тело, превращается в танец. Мы поем и пляшем о том, кто мы есть, и общий смысл наших песен в том, что нас мало любят, а мы хотим, чтобы нас больше любили, а нас любить особенно не за что. Общий смысл песен – дай. Не возьми, а дай. Раньше песня была о «возьми»: возьми меня, государство, я буду твоим слугой, буду водить самолеты и ездить на тракторе; или – возьми меня, любимая, я тебе подарю все, что хочешь.
А теперь песня стала «дай». Мне недодали, меня обманули, меня травмировали, дайте мне больше, не мешайте мне жить, я вам покажу, какой я крутой и бодрый. Дай, дай, дай.
А если не дать, будет обида, будет в лучшем случае ирония, эпатаж, а в худшем – месть. Я вам за все отомщу.
Страсти остались, но переместились.
В хорошей песне слова проплывают над смыслом, как гуси над землей. Смысл песни мерещится, и слова в ней не то чтобы бесплатное приложение, а непонятно откуда берущаяся вторая реальность.
Если в словах есть окончательная логика, песня скорее всего не получилась. Эта безумная потеря логики есть и в лучших современных песнях. Ирония лишь в том, что дурные песни с не меньшим успехом свидетельствуют об энтропии наших душ, и непонятно, на кого обижаться.
Зима грехов наших
Ударил наконец мороз. И слава Богу. А то нас всех развезло. На грани замерзания, между дождем и снегом скользим и падаем. Сосульки толстеют и падают. Все падает из рук.
Грехи наши теплые, жидкие, моросящие, и скоро в Сокольниках будут цвести папоротники, как во влажных лесах Амазонки, и появится много негров. Негры будут пестрые, разноцветные. Крикливые будут негры. Не выпьешь водки, войдя в дом с морозца. Солнце вообще куда-то закатилось. Раньше, бывало, высунешь голову в форточку и балдеешь, пока не замерзнешь.
А теперь только пот капает с бледного лба. И тело прыщавое, чешется, как у подростка, не тело, а земляничная поляна. Хорошо, что еще остались зимние праздники, как всеобщие ориентиры календаря, говорят, недавно был новый год, по дачам стреляли фейерверки и лаяли, поджав хвосты, собаки, но елки худосочные, иголок мало, да и те быстро осыпаются, пылесос ими забит, и поэтому по-особому воет, хрипло так, как бог ветра, и елочные игрушки тоже падают, но не бьются, а катятся по полу, как будто ненастоящие. И гирлянды зазывно подмигивают. А между тем где-то в мире есть ты. Ты с кем-то живешь. И где-нибудь, в пустой квартире под звон радио ты открываешь холодильник и смотришь на сырое, остывшее мясо с белыми жилками, берешь его в руки и снова кладешь в холодильник.
Мы никогда достоверно не узнаем о том, как на небесах прошел юбилейный банкет Иисуса Христа, но было бы странно предположить, что юбилей отмечался только на земле. Наверное, там было вкусно, и почему-то (причуда повара) по-мусульмански был приготовлен ужин, и мертвые, стоя на пестрых коврах, ели много винограда.
Кого пригласили, кого забыли пригласить? Неприглашенные, как водится, закусили губу.
Перед ужином прошел семинар на тему нравственности; на нем немножко посмеялись над Россией. Но не зло. На небе зло редко смеются. Хотя бывает. Знаю по себе.
Скорее всего, там было много поздравительных факсов и телеграмм, наверное, и сам звонил поздравить сына, хвалил за жертвенность.
Кого-нибудь там посмертно реабилитировали, может быть, наконец, Иуду, и тот тоже пришел на банкет, в белом смокинге, и раскаялся, а потом напился от двухтысячной усталости и умиления, и все апостолы плакали, называя Иуду другом, и несколько тысяч мелких грешников амнистировали, выпустили из ада, и они шли по дороге в крутую гору к небесному городу, как беженцы песчаной войны. Крупных грешников в ту ночь не особенно жарили, ни иностранцев, ни наших отечественных, вот было-то им, дуракам, послабление, а потом все решили, что в Москве нужно сделать теплую зиму, хотя их об этом никто не просил, и никто не молился по этому поводу.
Праздник кончился под утро большим разъездом гостей. Кто шел домой пешком в распахнутом пальто, без шарфа, кто нес женские серебряные туфли в пластмассовой сумке, кто ехал на такси и забыл там по-глупому туфли жены, и жена расстроилась, а я подумал, что ни разу в эту зиму не надел своей серой дубленки, и волчьей шапки не надел, купленной на Аляске, куда меня как-то раз занесло, и когда у меня в последний раз мерзли ноги, не помню. А мой брат медленно-медленно ехал на жигулях, зажав глаз рукой, потому что в глазах двоилось, но милиция его не тронула в ту ночь, народ стал пить чуть-чуть меньше, чем раньше, а у меня была очень молодая подруга с пятьюдесятью четырьмя африканскими косичками, большими серо-зелеными глазами, игрушечной шпагой мушкетера, и все этому удивлялись, а кто-то даже почесал в затылке, а ты выпила вдалеке от меня «кока-колки», разделась, легла спать с чужим человеком.
Последние судороги русского мата
Говорят, скоро выйдет закон, запрещающий женщинам ругаться матом в присутствии мужчин. Это было бы очень своевременно, поскольку женщины, особенно молодые, перестали бояться мата, а вместе с ним и самих мужиков. Мат до сих пор считался словесным насилием, а монополию на насилие имел сильный пол.
Мат стал модной темой. Ко мне постоянно пристают с вопросами о мате. Можно ли его использовать в литературе? Наши современники могут похвастаться тем, что живут в эпоху выхода мата на языковую поверхность – историческое явление, которое можно сравнить с изобретением компьютера.
Мат – подсознание, подкорка русского языка. Он близок магии, ворожбе. Те, кто хотят его запретить, стремятся, по сути дела, закрепить архаическую мощь родного языка. Мат в запрещенном состоянии имеет большую разрушительную силу. Он травмирует, подавляет, ломает, подчиняет. Кроме того, он оказывается системой обороны для тех, кто попал в слабую позицию. Короче, мат до сих пор остается языком войны.
Кроме того, мат традиционно считался языком подонков, и «культурный человек» всю жизнь играл в игру под названием: «ни одного матерного слова ни при каких обстоятельствах». Многие отличились в этой игре. Например, не только моя мама, но и мой папа. Я от них не слышал даже слова «жопа», не говоря уже о мате (впрочем, наконец дошло и до них: на днях моя 80-летняя мама, цитируя строительных рабочих, строящих дом на соседнем дачном участке для богатого корейца, впервые в жизни сказала «хуй»). Кажется, Маршак утверждал, что если написать длинное стихотворение, и в нем хоть раз использовать слово «жопа», от стихотворения ничего не запомнится, кроме этого слова. Эти времена ушли в прошлое. Теперь никакое запретное слово не помешает стихотворению запомниться в сознании миллионов людей. Однако другие миллионы людей могли бы до сих пор запомнить одну только «жопу». Таким образом, отношение к мату стало национальной проблемой, гражданской войной русской морали и нравов.
Почему мат вышел на поверхность? Может быть, потому что исчезает понятие «культурного человека», к которому все еще апеллируют учительницы младших классов и редакторы провинциальных газет? С такой точки зрения мораль деградирует, мы становимся хуже с каждым часом.
Однако это не совсем так. Во Франции, например, нет мата. Это даже огорошивает поначалу. Когда я в юности учил французский язык, то очень интересовался их грязными словами. Но французы, которых я спрашивал, находились в недоумении, путались, несли околесицу. Впоследствии я понял, что французская культура перемолотила мат, вобрала его в повседневный язык на уровне «окраинных», грубых, но маловыразительных слов. А ведь маркиз де Сад в восемнадцатом веке писал французским матом, шокируя порядочную публику, и это видно в русских переводах. Теперь же получился переводческий парадокс. Маркиз де Сад в русских изданиях звучит гораздо резче, чем во французских: у них эти слова утратили свою силу и потерялись. Значит, французы справились с матом разрешительным способом и убили понятие ненормативной лексики. По их пути пошли, хотя и много позже, уже в 60—70-е годы XX века, англичане, американцы, итальянцы, немцы, которые еще недавно печатали матерные слова с точками (и до сих пор, уже в порядке исключения, так печатают в основных национальных газетах), но постепенно раскрепощали их, буквально одно за другим, последним, по-моему, «размякло» слово на наши русские пять букв (видимо, самое крепкое матерное слово), но и оно получило право на легальное существование. Теперь употреблять их в речи – такой же свободный выбор людей, как говорить или не говорить часто «волшебное слово» – дело вкуса и воспитания.