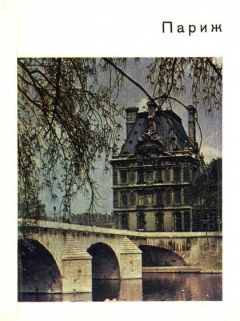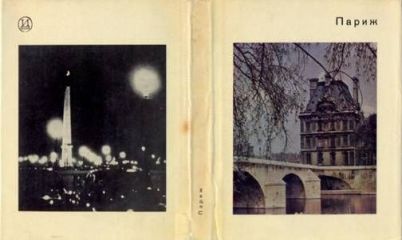Андре Моруа - Сентябрьские розы
– О чем ты будешь говорить сегодня, Гийом?
– О том же, о чем в первый вечер в Лиме.
– Это то, что я уже слышала? – уточнила она. – Тогда я составлю компанию Педро Марии, который все равно ничего не понял бы.
Они стояли возле машины. Она заметила, как изменился в лице Фонтен, и потянула его за руку:
– Не обижайся, querido… Мне нужно поговорить с Кастильо… В театральном мире он человек очень влиятельный… Мы увидимся в «Гранаде» сразу после твоей лекции. Потом поужинаем у доньи Марины и вернемся к тебе. Ладно?
– Ладно, – ответил он, изображая хорошее настроение.
Он был угнетен. Утром, ожидая Лолиту, он добавил пару абзацев к тексту своей лекции, которые для нее одной имели бы двойной смысл. Что делать? Настаивать, чтобы она пошла с ним? Вокруг было слишком много посторонних. К тому же имеет ведь она право заняться своей карьерой!
После лекции ему с большим трудом удалось отбиться от приглашений на ужин. Он сделал вид, что плохо себя чувствует и выбился из сил. «Это из-за высоты», – объясняли со всех сторон, и каждый счел своим долгом предложить лекарство или доктора. Наконец он освободился, отослал несчастного Петреску, который умирал от беспокойства за своего подопечного, и один вернулся в «Гранаду». Проходя мимо бара отеля, он увидел со спины изящную фигурку Лолиты и массивную Кастильо, они сидели у стойки на высоких табуретах. Удивленный и недовольный, он приблизился к ним и услышал, как Лолита говорит по-испански (Фонтен, увы, все понял):
– Мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь.
Голос был возбужденным и счастливым. Услышав за спиной шаги, Долорес обернулась и при виде Фонтена не выказала ни удивления, ни смущения.
– А! Гийом! – воскликнула она по-французски. – Все прошло хорошо? Я и не сомневалась… Хотите мартини?
Он сухо ответил:
– Нет, спасибо. Я отдохну в своей комнате. Когда вы закончите беседу с сеньором Кастильо, будьте любезны меня известить.
XI
Поднимаясь по лестнице отеля, Фонтен внезапно вновь почувствовал себя старым. Настроение изменилось, как меняются деревенские площади: их ненадолго преображает праздник, но, едва он закончится и на землю упадут последние ракеты фейерверка, они опять становятся бедными и угрюмыми, с валяющимися на земле каркасами догоревших огненных шутих. Он чувствовал унижение, стыд и ярость. «Та же фраза! – думал он. – И сказанная тем же тоном… Актриса!..»
Он сел в кресло спиной к двери с мыслью: «Все кончено. Как я мог поверить в эту нелепую мечту? Какое тщеславие…» Затем он сказал себе: «Ладно, все к лучшему… Я смогу ее забыть и с чистой совестью вернуться к Полине, она моя единственная радость. Человеку отпущено определенное количество нежности, а я расходовал ее впустую».
Впервые с момента своего приезда сюда он заметил, как уродлива эта гостиная. Уродливая мебель – деревянные каркасы с обивкой цвета хаки, уродливые гравюры, лубочные картинки с пошлыми сюжетами. До сих пор он этого не замечал. «Любовь, – думал он, – освещает все своим собственным светом, как Вермеер озаряет поэзией своих служанок… Удаляется художник, и вместе с ним уходит любовь. Служанка вновь становится служанкой, рай – гостиничным номером, а Долорес Гарсиа обычной кокеткой».
Он горестно вздохнул, затем гневно ударил кулаком по ручке кресла: «Как странно чувствовать такую острую ревность, когда юность уже прошла! Сопротивляться невозможно… Это сладостная мука одержимого!»
Он тщетно пытался читать. «Актриса!.. Актриса!» – повторял он. Наконец раздался знакомый стук в дверь, он не ответил. Потом он услышал, как скрипнула дверь, но не обернулся.
– Tesoro, – произнес голос Лолиты, – я зашла к себе, и вот я готова… Пойдем ужинать к донье Марине?
– Как хочешь, – устало ответил он. – Я не голоден.
– Что с тобой, Гийом? Ты болен?
– Болен? Нет… Мне все надоело, жизнь, ты, всё…
– Я?.. Ты с ума сошел, Гийом?
Она закрыла дверь, обошла кресло вокруг, села возле ног Фонтена и попыталась взять его за руки, но он их отнял.
– Да что с тобой, Гийом?.. Это потому, что я не пошла на твою лекцию?.. Но, любовь моя, я ведь ее уже слышала в Лиме! Я просто подумала…
– При чем здесь лекция! – трагическим тоном произнес он.
– Но тогда в чем дело?.. Моя совесть чиста, мне не в чем себя упрекнуть.
Он пожал плечами:
– В самом деле?.. А что ты делала с тех пор, как мы расстались?
– Безобразничала, Гийом: ходила в клубный бассейн с Терезой и Кастильо… Только не изображай из себя командора, любовь моя, тут нет ничего особенного. Я обожаю плавать… Но вода была не очень теплая, и мы отправились в бар «Гранады», чтобы выпить мартини и согреться немного, а еще подождать тебя. Потом Тереза вернулась домой. Все в высшей степени невинно и безобидно.
– И так же невинно было говорить: «Мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь»? В точности то же самое ты говорила и мне… И давно вы на «ты» с Барнабу? Сегодня утром ты увидела его первый раз в жизни!
– Как ты его называешь?.. Но, бедный Гийом, я же тебе уже говорила: по-испански мы сразу же переходим на «ты», и никакой это не признак близости. И это правда, у меня было ощущение, что я давно его знаю: я ведь читала его стихи, я знаю их наизусть, я играла в его пьесах. Это ведь никакая не связь, no?
Поднимаясь, она произнесла грустно и покорно:
– Так это все, Гийом? Я тебе больше не нужна? Мне уйти?
Он тоже встал, заставив себя улыбнуться:
– Нет, я не буду таким суровым. Перед тем как обречь себя на вечные муки ада, ты имеешь право на пару кусочков мяса с кровью и бутылку красного вина.
Она взяла его за руку:
– Я не хочу ни мяса с кровью, ни красного вина. Я хочу твоей любви… Ты мне ее дашь?
И поскольку он не ответил, она повторила:
– Гийом, ты дашь мне свою любовь?.. Если нет, я ухожу.
– Ты сумасшедшая, – сказал он, – ты ведь сама знаешь… Просто я ревную.
– И мне это нравится, – ответила она. – Если бы ты не ревновал, ты не был бы влюблен… Soy feliz.
Отправляясь в ресторан, они снова были добрыми друзьями, и каблучки Лолиты весело стучали по кремнистым тротуарам Боготы. Донья Марина радушно приняла их. Когда Долорес выпила свою бутылку вина и выкурила целую пачку сигарет, она стала грустно каяться.
– Гийом, – серьезно произнесла она, – ты сейчас принял мои объяснения, но это все неправда… Я действительно кокетничала с Кастильо.
– Ты всегда кокетничаешь, – сказал он. – В этом нет ничего плохого, это обычная форма вежливости.
Но ей необходимо было исповедаться:
– Не будь таким снисходительным, Гийом… Я не просто кокетка, я скверная, порочная. Я могу насмехаться над людьми, которые меня любят, и пытаться сделать им больно. Да, даже тебе… И это не моя вина, просто со мной в жизни так плохо обращались! Мой первый мужчина был страшный эгоист. Муж, которого я хотела полюбить, меня развратил. И я стала жестокой. Ты был со мной таким нежным и ласковым, а я предала тебя, о! только в мыслях, но все равно это ужасно…
Он вновь начал тревожиться:
– Что же ты сказала этому мужчине? И почему ты кокетка? Это так прекрасно, единственное в своем роде чувство.
В этот момент в ней словно произошел резкий надлом. С едкой иронией она передразнила его:
– «Это так прекрасно, единственное в своем роде чувство». «Ты хочешь, чтобы я была чистой, / Ты хочешь, чтобы я была целомудренной, / Ты хочешь, чтобы я была белоснежной», – так, да? А мне бы очень хотелось увидеть, buen hombre,[43] письма, которые ты сейчас пишешь своей жене! Ты, конечно, уверяешь ее в своей любви, пишешь, как тебе не терпится ее увидеть, ты ничего не пишешь про опасную Периколу, кокетливую и лживую, с которой сейчас проводишь дни и ночи, no?.. Так по какому праву ты проповедуешь верность и преданность?
Фонтен с восхищением выслушал ее великолепную тираду и в очередной раз подумал: «Какая великая актриса!» Он не мог знать наверняка, что именно она сказала Кастильо, что она обещала, возможно, этому мужчине, но сейчас, в эту самую минуту, она, близкая, плачущая, казалась ему такой прекрасной, что желание было гораздо сильней, чем гнев. Он подумал, что уже поздно, а они теряют драгоценное время.
– Ты зайдешь на минутку ко мне? – спросил он.
В глазах Лолиты, затуманенных слезами, промелькнуло торжество.
– Закажи мне еще ликера, – попросила она, – и мы пойдем.
XII
Весь следующий день Долорес провела в театре с директором и режиссером. Гийом Фонтен постарался успокоить Овидиуса Назо: он согласился пообедать у весьма любезного французского посла, который выражал признательность за благотворное воздействие его выступлений; он поужинал у министра иностранных дел, человека очень образованного, который преисполнился к нему симпатией; он выступал по национальному радио, а в университете прочитал лекцию о Поле Валери, она очень понравилась этим людям, каждый из которых сам был поэтом. Вечером он был весьма доволен собой и думал: «В сущности, этот славный Овидиус совершенно прав. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, я старый профессор, и только…» Прощаясь перед театром, Мануэль Лопес передал ему просьбу министра, чтобы завтра Фонтен отправился в Медельинский университет.