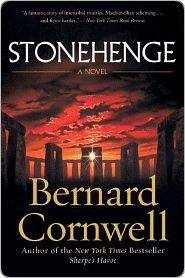Валерий Залотуха - Свечка. Том 2
А это, оказывается, здорово – видеть чужую любовь, втайне за ней наблюдая… Или слышать такой диалог.
Он (смущенно): Ну, Галь…
Она (еще более смущенно): Ну что?
Он: Ну, Галь…
Она: Ну что?
Я подслушивал и подсматривал? Выходит, так… Но постыдное это занятие имеет в моем случае оправдание, и даже приносит пользу подслушивающему и подсматривающему, если речь идет о любви, о такой вот настоящей любви – кажется, сам делаешься лучше, чище и даже сильнее.
Мы просидели с Золоторотовым на кухне всю ночь до того момента, когда разрисованное павлиньими перьями мороза окно начало светиться застенчивым розовым светом нового дня. Кажется, впервые в жизни я участвовал в ночном мужском застолье без капли алкоголя, и ничем это застолье не было хуже, а в чем-то даже и лучше – мы не скатывались на разговоры о женщинах, футболе и политике, и пока не коснулись истории с Наумом, ни разу не то что не поссорившись, но даже и не поспорив.
Увлеченно и страстно Золоторотов рассказывал о «Маяке», в котором он был негласным общественным лидером, которого безо всякого голосования избрали живущие в нем старухи.
– Просто больше некому, – смущенно объяснил Евгений Алексеевич.
Я знал об этом от Киры в несколько иной трактовке. «Нашли дурака, – насмешливо говорила она. – Он им все, а они ему одни жалобы и обиды».
Золоторотов оживлялся, рассказывая о старухах, и смеялся, сравнивая их с известными литературными персонажами: были там три сестры – старые девы, а также Кабаниха, Коробочка и даже Любка Шевцова, – состарившиеся до последнего физического предела, почти готовые к смерти…
На эту совсем невеселую тему мы вышли после того, как, думая о Груше, я рассказал поразившую меня историю об одном знаменитом французском артисте, который похоронил в своем поместье двенадцать сопровождавших его по жизни любимых псов и теперь завещает похоронить среди них себя.
Но поразившую меня историю Золоторотов слушал в пол-уха. Его занимали его старухи.
– Кладбище требуют! «Здесь жили, здесь и будем лежать», – озабоченно сообщил он мне, и я не знал, как на это сообщение реагировать.
– Я узнавал – это очень сложно, – продолжал Евгений Алексеевич, озабоченно катая по клеенке стола невидимую крошку. – Разрешения, согласования, взятки, а ведь надо еще научиться их давать. Но с кладбища здесь может начаться новая жизнь…
Услышав это, я поперхнулся холодным чаем и внимательно посмотрел на собеседника – не шутит ли он? Нет, Золоторотов был серьезен. Увидев мой взгляд, он улыбнулся и спросил:
– В каком храме мы встретились на Пасху и заново познакомились, как он называется?
– Успение Богородицы, – ответил я, не понимая, куда он клонит.
– А вам известно, что среди тысяч и тысяч русских православных храмов больше всего Успенских? Не понимаете почему? Я тоже не понимал… Смерть матери – это единственное, что может нас, русских, вместе собрать и объединить. Помните, как у Распутина в «Последнем сроке» умирающая мать собрала всю большую семью?
«Так переругались они там все, чуть не передрались», – хотел напомнить я, прочитавший «Последний срок» раз пять, но не стал перебивать.
Золоторотов вдохновенно продолжал:
– Они так и говорят, эти несчастные советские старухи: «К нам живым дети не приезжают, а к мертвым приедут». А потом посмотрят, как здесь хорошо, и останутся, – последнее он уже от себя добавил.
Я попробовал себе это представить, но не получилось.
– Не понимаете? – сочувственно спросил он.
– Не понимаю, – ответил я, с сомнением глядя на прекраснодушного прожектера.
«И этого человека называли московским Чикатило?
И этот человек бежал из тюрьмы?
И этот человек поставил на уши всю Москву?»
И, чтобы спустить героя своего романа с небес на землю, молча вытащил из кармана газетную заметку под названием «Орально, анально и, наконец, вагинально» и как неопровержимую улику молча протянул ее Золоторотову. Он приблизил ее к глазам и долго читал, растерянно улыбаясь и почесывая пальцем покрасневший шрам на виске. Наконец поднял на меня удивленный взгляд и, продолжая улыбаться, сказал:
– Очень хорошо. Значит, вы все знаете?
– Я ничего не знаю, – строго проговорил я.
Повисла тягучая и тягостная пауза, как-то все вокруг стихло, даже Кира перестала храпеть за стенкой.
Золоторотов посмотрел на меня сочувственно и тихо заговорил:
– Вы писали или, может, все еще пишете роман об одном интеллигентном человеке, который пошел однажды защищать демократию и встретил Бога?
Преодолевая внутреннее сопротивление, раскаиваясь в собственном предательстве, я проговорил:
– Да, писал… Пишу… – И мысленно поправил: «Только не однажды и не интеллигентный – просто человек».
– Один интеллигентный человек пошел однажды защищать демократию и встретил Бога… Это правда, но не вся, не до конца, это только начало правды, – с трудом подбирая слова, продолжил Золоторотов, бросая на меня короткие сочувственные взгляды. Он волновался не за себя – за меня: пойму ли, и теперь я понимаю обоснованность того волнения – чтобы понять сразу то, о чем он собирался сказать, нужно это пережить.
– Ну и? – нетерпеливо поторопил я его. (Если бы кто меня так поторопил, я бы сказал: «Не понукай, не запряг!»)
– …и Бог его чуть не изувечил, – на одном выдохе закончил свою мысль Золоторотов.
Однажды один интеллигентный человек пошел защищать демократию, но встретил Бога, и Бог его чуть не изувечил.
Удивление – растерянность – смятение – возмущение – страх. Так в одно мгновение мутировала моя внутренняя реакция на эти его слова. Я никак не ожидал услышать их из уст героя пусть и не написанного, но моего романа. Или он уже не герой? Я всматривался в него с сомнением, он смотрел на меня с сочувствием.
Мы молчали, храпела Кира, павлиньи хвосты на стеклах окон наливались розовым, и не знаю, сколько длилось бы наше молчание и чем закончилось, если бы в кухню не вошла Галина Глебовна. Она была в шерстяном подвязанном поясом халате и имела совершенно не заспанное лицо. Извинившись за свой домашний вид, она стала рассказывать мне, как, с трудом найдя место заключения Золоторотова («Вы чужой человек, зачем он вам нужен?»), она приехала к нему в самый канун нового двухтысячного года, нажарив перед этим дома целую гору котлет… И свадьба их, точней, бракосочетание – было в «Ветерке», и Сашка с Пашкой – дети свиданий продолжительностью в три дня и три ночи в специально отведенной для этого «комнате свиданий» ИТУ 4/12-38.
– А этому всему не верьте, это все ложь, злая грязная ложь, – нахмурив брови и глядя на газетную вырезку на столе, проговорила она, прежде чем уйти спать.