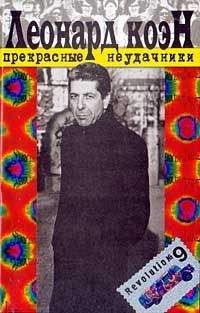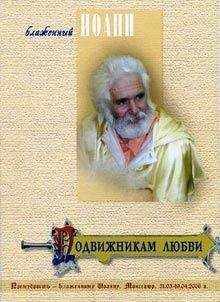Альбер Коэн - Любовь властелина
— Я ничего и не говорю.
— Все равно молчи! И вот этот тип вынимает изо рта трубку, и тебе вовсе не противно, что от него воняет табаком. Да, я понимаю, всего лишь предположение, но это дела не меняет. Если тебе не противно, ты уже к этому готова. А еще ты сказала, что мне очень идут сапоги! Все женщины сходят с ума от сапог! Сапоги, мощь, военная слава, победа силы над слабостью, опять на повестке дня обожаемая горилла! Все вы обожаете природу и ее мерзкие законы! Еще лучше, для этой язычницы сапоги ведь означают общественное положение! Да, рыцарь, кавалер, достойный человек, дворянин, вождь племени, в конечном итоге потомок средневековых баронов, шевалье, всадник, власть имущий, благородный господин! Благородный, какое отвратительное слово с двойным дном, рожденное пошлым преклонением перед силой, оно обозначает одновременно угнетателя обездоленных и человека, достойного восхищения! Я это уже говорил? Вполне возможно. Пророки тоже повторялись. Короче, от обожательницы сапог один шаг до фашистки! Рыцарь, кавалер, шевалье, фу! Спросите у Проглота, он расскажет вам, что таится под всеми этими понятиями, под этой честью, перед которой вы все ходите на цыпках! Молчи!
Бедный Дэм, такой добрый и нежный. Она бросила его ради меня, ради меня, изображавшего в «Ритце» сильную личность, унижавшего бедного Дэма! Со стыдом в сердце я унижал его по телефону, но это было необходимо, чтобы купить ее такой мерзкой ценой! Вот смеху-то, я выступаю против силы и мужественности, но ведь именно силой и мужественностью я ее и завоевал тогда в «Ритце», так постыдно завоевал! Какой стыд меня охватывает, когда я вспоминаю мои горилльские прыжки и ужимки, как я по-петушиному распускал хвост, заходился в брачном танце! А что было делать? Я предложил ей старика, нежного и робкого, и она его отвергла, и она бросила стакан, или не знаю еще что там, в лицо! Молчи!
Может, я безумен, может, я сошел с ума из-за всей этой истории про силу, про животное обожание силы, которая представляет собой способность убивать? Да нет, я помню ее, да, вас, да, тебя, тебя, я помню, как сейчас, в Ницце перед клеткой тигра во время антракта в цирке, такую взволнованную, восхищенную. Какой чувственный отблеск в глазах у нее появился! От волнения она сильно сжала мне руку, поскольку, очевидно, ей хотелось сжать руку тигра! Да, согласен, надо было сказать лапу. Она была возбуждена и вся дрожала, как честная женщина Европа перед быком! Юпитер был неглуп, он знал женщин! Девственница Европа с длинными косами наверняка сказала быку, стыдливо потупив взор: «Вы так сильны, моя радость». А другая честная испанская женщина в пьесе говорит своему возлюбленному, что он благородный и могучий лев! Ее лев! Вот слово, которое этой подлой донье Соль, королевы смолы и гудрона, показалось самым нежным из всех слов, лучше всех передающим любовь и восхищение, — слово, изображающее зверя с огромными клыками и когтями, рожденного, чтобы убивать! Вы мой благородный и могучий лев! О, гнусное создание!
И кстати, та, что передо мной так тиха и благородна, не она ли осмелилась сказать мне тогда в Ницце, что хотела бы коснуться тигриной шкуры? Коснуться! Значит, тут физическое влечение! Грех начинается с рук! И кто знает, может быть, она предпочитает шкуру тигра шкуре Солаля? И весь этот ваш флирт со всеми встреченными кошками! Вчерашний кот, тигр в миниатюре, пожиратель птичек, с каким очевидным удовольствием вы гладили его брюхо! Молчи, дочь Моава. А вот слизняков она не ласкает, она отшатывается в отвращении! Откуда такое отвращение, отчего она не флиртует со слизняками? Потому что слизняки вялые и не способны напрягаться, потому что у слизняков нет мускулов и когтей, потому что слизняки слабы и неспособны убивать! Но тигр, или генералиссимус, или диктатор, или наглый, энергичный Солаль в «Ритце» — это пожалуйста, и она тает перед ним, целует ему руку, в тот вечер, и уже готовится трепать его лацканы! Все время лишь мерзостное преклонение перед способностью убивать, мерзкое обожание мерзкой мужественности! Молчи!
Бледный, с трясущимися губами, он глядел на преступницу, потом схватил хлыст и хлестнул кресло так сильно, что она вздрогнула.
— А если у меня их отрубить? — спросил он. — Отвечай!
— Я не понимаю, — прошептала она.
— Это все отговорки! Ты все хорошо поняла! Если я велю отрубить их мне, если лишусь этих двух ужасных свидетелей позора, будешь ли ты по-прежнему с любовью поглаживать мои лацканы, ты знаешь, с любовью Моцарта, с любовью «Voi che sapete», твоя душа будет по-прежнему любить мою душу? Отвечай!
— Послушайте, любимый, давайте не будем говорить об этом.
— Почему?
— Но вы же знаете.
— Объясни почему.
— Потому что это совершенно невероятное предположение.
— Невероятное в глазах вашей сестры, вернее сказать, вашей кузины. Невероятное? Да что вы об этом знаете, мадам? И кто вам сказал, что у меня не возникает искушения покончить со всей этой мужественностью?
— Любимый, давайте больше не будем говорить об этом.
— Короче, вы боитесь себя скомпрометировать. В таком случае, слава двум маленьким висюлькам, которые так ценятся среди Офелий, будем их хранить и лелеять! — Он посмотрел на нее, его глаза загорелись от радости, что он понял ее мысли. — Я знаю, о чем вы сейчас думаете! Развращенный и разрушительный еврейский дух, правильно? Вы все такие, закутали свой мозг в кокон идеалов и таким образом пытаетесь отгородиться от безжалостной правды! Люцифера, ангела, несущего свет, вы сделали дьяволом! Но вернемся к человеку-обрубку. Вы меня будете любить, если я стану человеком-обрубком?
Внезапно его пронзила боль. Как-то вечером, в Ницце, когда на ночь опускали знамя на миноносце. Это было похоже на религиозный ритуал, и он завидовал морякам, взявшим на караул, завидовал офицеру, салютующему знамени, пока его цвета исчезали в ночной тьме. Прощай, Франция, мы с тобой расстались. Через несколько дней после их приезда в Агай, письмо на гербовой бумаге из полиции Сан-Рафаэля уведомило месье Солаля, что, согласно декрету, опубликованному в «Журналь оффисьель», он лишается французского гражданства; что мотив лишения гражданства по закону не может быть указан, но что у заинтересованного лица есть возможность подать прошение в течение двух месяцев; что декрет подлежит исполнению вне зависимости от подачи прошения, и вышеуказанный господин обязан явиться в комиссариат для того, чтобы сдать все французские документы и, в первую очередь, паспорт. Он помнил это письмо наизусть. И потом — визит в комиссариат. Сидя на обшарпанной скамье, он долго ждал, пока его примет заплывший жиром комиссар. С какой довольной улыбочкой этот облезлый тип с грязными ногтями изучал дипломатический паспорт! И вот теперь все его документы — временный вид на жительство, свидетельство о рождении и гостевая виза для лишенных гражданства. Он теперь только любовник, всего лишь любовник. И чем он занят в данный момент? Пытается бороться с авитаминозом чувств и заставляет страдать эту несчастную. Жалкая и покорная, она опять не решалась прервать молчание, его верная соратница, которая все бросила ради него, безразличная к мнению света, живущая для него одного, такая беззащитная, такая смешная, слабая и грациозная, когда ходит перед ним нагая, такая красивая и уготованная смерти, такая бледная и холодная в гробу. Ох, этот смех и аплодисменты, доносящиеся снизу, в которые она вслушивалась.