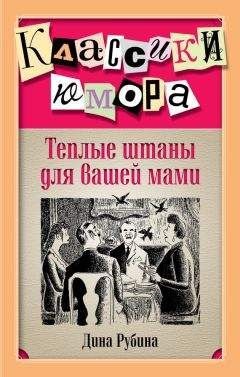Ханья Янагихара - Маленькая жизнь
Он думал, что справляется неплохо, по крайней мере сносно. Как-то раз Гарольд позвонил и спросил, что он собирается делать на День благодарения, и на мгновение он растерялся, не понимая, о чем тот говорит, что вообще значит само это слово – «благодарение».
– Не знаю, – ответил он.
– Это на следующей неделе, – сказал Гарольд тем новым тихим голосом, которым теперь все к нему обращались. – Ты можешь приехать к нам, или мы к тебе, или поедем куда-нибудь все вместе?
– Не могу, наверное, Гарольд, – сказал он. – У меня очень много работы.
Но Гарольд настаивал.
– Где угодно, Джуд, – сказал он. – С кем хочешь. Или ни с кем. Но нам нужно тебя повидать.
– Вам не удастся хорошо провести время со мной, – сказал он наконец.
– Нам не удастся хорошо провести время без тебя, – сказал Гарольд. – Точнее, вообще никак не удастся. Прошу тебя, Джуд. Куда угодно.
Так что они поехали в Лондон. Остановились в их с Виллемом квартире. Он был рад уехать из страны, где по телевизору показывают семейные сцены, а коллеги радостно сплетничают про своих детей, жен, мужей и прочих родственников. В Лондоне это был просто обычный день. Они гуляли втроем. Гарольд готовил сложные блюда с катастрофическим результатом, а он их ел. Он все время спал. Потом они вернулись домой.
А потом, однажды в воскресенье, в декабре, он проснулся и понял: Виллема больше нет. Он ушел от него навсегда. Он больше не вернется. Он больше никогда его не увидит. Он больше никогда не услышит голос Виллема, не вдохнет его запах, не почувствует, как руки Виллема его обнимают. Он больше никогда, всхлипывая от стыда, не сбросит груз очередного воспоминания, больше никогда, ослепленный ужасом, не вырвется с содроганием из очередного сна и не почувствует, что Виллем гладит его по лицу, не услышит, как сверху доносится его голос: «Все хорошо, Джуди, все хорошо. Все позади, все позади, все позади». И тогда он заплакал, заплакал по-настоящему, заплакал впервые после аварии. Он плакал о Виллеме, о том, как он, должно быть, испугался, как он страдал, плакал о его несчастной короткой жизни. Но главным образом он плакал о себе. Как ему теперь жить дальше без Виллема? В его жизни – жизни после брата Луки, жизни после доктора Трейлора, жизни после монастыря, после номеров в мотелях, после приюта, после дальнобойщиков, в той единственной части его жизни, о которой имело смысл говорить, – всегда был Виллем. Не было дня, с тех пор как он, шестнадцатилетний, познакомился с Виллемом в общежитской комнате Худ-Холла, когда бы они не общались так или иначе.
– Джуд, – сказал Гарольд, – станет легче. Клянусь тебе. Клянусь. Сейчас кажется, что это невозможно, но станет.
Они все так говорили – и Ричард, и Джей-Би, и Энди; те, кто писал ему открытки. Кит. Эмиль. Только это они и говорили: станет легче. Но хотя он понимал, что никогда не скажет это вслух, про себя он думал: не станет. Джейкоб был у Гарольда пять лет. Виллем был у него тридцать четыре года. Никакого сравнения. Виллем был первым, кто его полюбил, первым, кто увидел в нем не объект эксплуатации или жалости, а что-то иное – друга; он был вторым, кто всегда, неизменно был к нему добр. Если бы у него не было Виллема, у него не было бы никого из них – он никогда не смог бы довериться Гарольду, если бы прежде не доверился Виллему. Он не мог представить себе жизнь без Виллема, до такой степени Виллем определял для него, что есть жизнь и чем она может быть.
На следующий день он сделал то, чего не делал никогда: позвонил Санджаю и сказал, что не выйдет на работу в ближайшие два дня. А потом лежал в кровати и плакал, кричал в подушки, пока полностью не потерял голос.
Но за эти два дня он выработал новый подход. Теперь он остается на работе допоздна, так долго, что нередко видит восход солнца в офисном окне. Он делает это каждый рабочий день, и по субботам тоже. Но по воскресеньям он спит до упора, а проснувшись, принимает таблетку, которая не просто снова его усыпляет, но полностью вырубает любые проблески бодрствования. Он спит, пока действие таблетки не проходит, потом идет в душ, снова забирается в постель и принимает другой препарат, от которого сон становится неглубоким и хрупким, и спит до утра понедельника. Он просыпается в понедельник после двадцатичетырехчасового, если не более продолжительного, голодания, руки дрожат, в голове пусто. Он идет плавать, он отправляется на работу. Если ему повезло, он провел воскресенье в снах о Виллеме, пусть и коротких. Он купил длинную, толстую подушку в человеческий рост, предназначенную для беременных или для людей с больной спиной; он одевает ее в одну из рубашек Виллема и обнимает во сне, хотя при жизни это Виллем его обнимал. Он ненавидит себя за это, но прекратить не может.
Он смутно осознает, что друзья наблюдают за ним, что они обеспокоены. В какой-то момент выяснилось, что он так мало помнит о днях после аварии в том числе и потому, что был в больнице, под надзором на случай попытки самоубийства. Теперь он ковыляет из одного дня в следующий, раздумывая, почему он, собственно, не кончает с собой. Ведь именно сейчас так уместно это сделать. Никто его не осудит. Но все-таки он этого не делает.
По крайней мере, никто не говорит ему, что надо жить дальше. Он не хочет жить дальше, не хочет двигаться ни в каком другом направлении: он хочет остаться ровно в этом состоянии, навсегда. По крайней мере, никто не говорит ему, что он отрицает реальность. Отрицание – единственное, что его поддерживает, и он с ужасом ждет дня, когда созданные им иллюзии утратят силу убеждения. Впервые за несколько десятилетий он вообще не режет себя. Если он не прикасается к лезвию, он остается в отупении, а ему нужно оставаться в отупении; ему нужно, чтобы мир не подходил слишком близко. Он наконец смог добиться того, на что всегда так надеялся Виллем; оказалось, для этого просто нужно отнять у него Виллема.
В январе ему приснилось, что они с Виллемом готовят ужин и болтают в Фонарном доме – что они делали сотни раз. Только во сне он слышал собственный голос, но не слышал Виллема – видел, что его губы шевелятся, но не слышал ни слова. Проснувшись, он бросился в свою коляску и поспешил в кабинет, где стал рыться в старых электронных письмах, пока не нашел несколько голосовых сообщений от Виллема, которые когда-то забыл стереть. Сообщения были короткие и непримечательные, но он проигрывал их снова и снова, рыдая, скрючившись от горя, и сама банальность этих сообщений: «Джуди, привет. Я пошел на фермерский рынок, куплю тебе дикого лука. Может, еще что-то нужно? Свистни», – была драгоценна, потому что служила доказательством их совместной жизни.
– Виллем, – сказал он вслух в глубину квартиры, потому что иногда, когда становилось совсем плохо, он с ним разговаривал. – Вернись ко мне. Вернись.