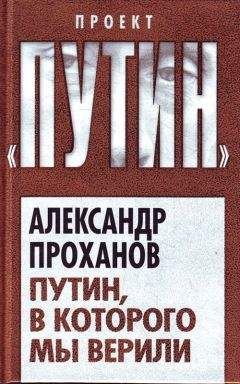Александр Проханов - Политолог
Из стада к воде вышла небольшая, золотистая корова. Нюхала воду, вглядывалась в соседний зеленый остров, шевелила большими влажными ноздрями, всасывая ароматы далекой недоступной травы, жадно облизывая языком большие мягкие губы. Стала входить в озеро, по колено, по грудь. Оглядывалась на стадо, протяжно мыча. Другие коровы шли следом, наполняли отмель дышащими боками. Оседали по брюхо в воду, расталкивая вокруг водяные круги. Передняя корова забрела по горло, так что над водой возвышалась одна рогатая голова и тонкая полоска золотого крестца. Поплыла, мягко, плавными толчками, гоня перед собой стеклянный бурун. Другие коровы следовали за ней, погружались в озеро, начинали плыть, удаляясь от берега, наполняя студеную синеву горячими красно-золотыми телами.
Стрижайло с изумлением смотрел на уплывавших коров. Зрелище было прекрасным, — густая лазурь, рогатые красные животные, стеклянные буруны, расходящийся пенный след. Все было волшебно, подтверждало таинственность промысла, что привел его на остров, где покоится дивный старец, деревенский философ рассуждает о вселенском грехе, обитают плавающие коровы, которые, — все можно ожидать, — вспенят вокруг себя озеро, расправят широкие красные крылья и всем алым стадом улетят в небеса.
Коровы медленно удалялись, краснея среди синевы. Достигли соседнего острова. Выбредали из озера, отекая солнечными ручьями, поджидая отставших. Издалека через пролив доносилось их мычание. Стадо вышло на берег и ушло в зеленую глубину острова, где было обилье травы, растаяли среди солнечной зелени. Восхищенный, умиленный, Стрижайло поднялся с камня, побрел по берегу.
Обошел остров по узкой кромке, под песчаной кручей, где длинные, прикованные цепями, наполовину в воде, лежали лодки, круглились разноцветные валуны, вылизанные волнами, испачканные птичьим пометом. И все не мог оторваться от синевы, — густая в середине озера, дальше, вдали, она превращалась в голубой белесый туман, сливалась с небом. Где-то там, невидимые, двигались челны рыбаков, шумели паруса, стучали моторы, приближались к родному берегу.
По отвесной тропинке поднялся на гору и очутился вновь у знакомого кладбища, похожего на зеленое, опустившееся на остров облако. По другую сторону улицы стояли дома, среди них — крохотная, покосившаяся избенка с ветхим крылечком и подслеповатыми оконцами. На крыльце появилась худая немолодая женщина, по виду монашка, в долгополом облачении, темном платке. Улыбнулась с крыльца.
— Здравствуйте, — поклонился ей Стрижайло.
— Ангела Хранителя, — ласково, с чудесной улыбкой на выцветшем лице отозвалась женщина, — А я видела, как вы к батюшке Николаю на могилку ходили.
— Хорошо у него на могиле, не грустно.
— А батюшка негрустный был, радостный. Бывало, выйдет из келейки, — монашка обернулась на домик, — обопрется палочкой о крыльцо и смеется. Солнышку смеется, птичкам, цветам. Любил все Божье. А сами откуда?
— Из Москвы.
— В Москве греха много. Батюшка Николай за Москву молился, чтобы ее Господь простил, не насылал гневную чашу. Да вы зайдите, гляньте на келейку.
Вслед за женщиной, наклоняя голову, чтобы не удариться о притолоку, Стрижайло вошел в избушку и почувствовал, как в ней тесно, как его большое сильное тело заняло почти все пространство крохотной горницы.
Вся комнатка была завешана образами, от крупных, в старинных серебряных и медных окладах, стоявших на божнице, до тех, что помельче, отдельно и складнями висящих по стенам. Перед иконами горячо, красные, зеленые, золотые, пламенели лампады. Ярко горели свечи, трепетали, жарко таяли, и казалось, что здесь недавно молились, — такой душистый стоял дух, такое озарение царило во всех уголках молельни. Много место занимала высокая, застеленная кровать. В ногах висела поношенная, латанная-перелетанная ряска, та, в которой к Стрижайло явился старец. В головах стоял знакомый, суковатый посох, отшлифованный стариковской рукой. На спинке пестрел узорный, шитый бисером поясок, как нежная радуга. Казалось, старец, помолившись, ненадолго вышел и сейчас вернется, ласковый, белобородый, с васильковыми глазками, весь в лучистых морщинках.
Стрижайло почувствовал в келье тот же, что и на кладбище, прилив теплоты, близких слез, присутствие кого-то, кто бескорыстно и нежно любит его, прижимает к груди, принимает со всеми изъянами и пороками, как ненаглядного сына.
— Может, хотите помолиться? — спросила монашка. — Батюшка вместе с вами молиться станет. Вас обоих Бог быстрее услышит. Не стану мешать, — и вышла, тихо притворив дверь.
Стрижайло растерянно, взволнованно осматривал келью. Тесный дощатый столик с зарубками и потертыми метинами, за которым старец вкушал свои скудные трапезы. Конторка, застеленная истертым бархатом, на котором лежали медный крест и раскрытая церковнославянская книга. Над столом — фотография, где в ряд стоят три молодых чернокудрых монаха с истовыми вдохновенными лицами, быть может, один из них — старец в молодые годы. Стрижайло стоял, окруженный лампадами и свечами, и ему казалось, кто-то чуть слышно его подталкивает, направляет в него едва ощутимые удары тепла и света, понуждает к чему-то. «Молись!» — угадал он бессловесный приказ, исходящий из низкого, в сучках, прокопченного потолка. Робея, опустился на колени, прямо перед сияющими, чеканными образами, где в серебряных нимбах темнели коричневым два глазастых лика — Богородицы и Младенца. Не зная, ни единой молитвы, стал молиться. Не знал, кому молится. Не знал, о чем просит. Просил, чтобы его пустили туда, где нет муки и ужасов жизни, сняли с него заклятье, развязали затянувший душу невыносимый узел, освободили его и очистили, взяли на себя непосильную ношу, окружили чистой женственностью и любовью, не оставляли одного, а хранили вокруг него этот дивный свет, материнскую нежность, всеобъемлющую, всепрощающую любовь.
Стоя на коленях, чувствовал, как чьи-то незримые губы вдувают в него тепло. Прикоснувшись к виску, вливают нежные волны света. Тепло и свет проникали в душу, омывали сердце, орошали каждую живую частичку, и она начинала трепетать и светиться.
Он словно видел себя внутренним взором. Все множество составлявших его корпускул, весь сонм роящихся молекул, все бессчетные росинки жизни пришли в движение. Сталкивались, превращаясь в едва различимые разноцветные взрывы. Исчезали, оставляя после себя микроскопические искры. Меняли цвет, из красного становясь голубыми, зеленым, золотыми. Создавали радужные узоры, как на бисерном пояске старца. Казались крохотными планетами, на которых зарождалась жизнь, появлялось цветенье, селился одухотворенный разум. Окна светелки превратились в витражи, составленные из разноцветных стекол. Дробились, переливались, складывались в неповторимую мозаику, фигуры калейдоскопа. Держались мгновение и вновь рассыпались, чтобы сложиться в изменчивую восхитительную геометрию. Ему казалось, что его существо переживает изменение, претворение. Плоть теряет прежние свойства и качества, просветляется, становится воздушней и легче. Из частиц и молекул строится новое тело, новый неведомый образ. Но вдруг на это недостроенное тело, невоссозданный образ налетали темные вихри, рушили, рассыпали. Вместо золотисто-лазурных потоков начинал клокотать и струиться огненно-красный, жестокий.