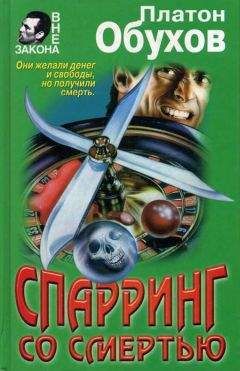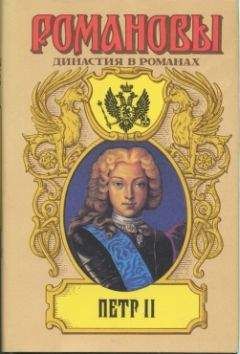Петр Проскурин - Отречение
— Волнение крови, полковник, — осторожно предположил Анисимов. — Сейчас в атмосфере магнетизма мною, неопознанные летающие объекты, почитай газеты, чего только не узнаешь! Да и человек, особенно такой, не может бесследно исчезнуть…
— Ты считаешь?
— Уверен! — ответил Анисимов, шумпо принюхиваясь к аппетитным запахам окорока, распространившимся по кухне. — Но каждому свое… Какой непереносимый аромат, что может быть выше самой жизни! Да, полковник, ты обещал показать последние поступления, подлинники рукописей. Не забудь, скоро полночь, я его руку хорошо знаю.
— Не забуду, — отозвался хозяин, выкладывая на блюдо огненно пузырившийся окорок.
Положенный час пробил, на Спасской башне часы отзвонили последнюю четверть безвозвратно уходящего дня, и у дверей Мавзолея сменился караул — два молоденьких курсанта замерли, сжимая в руках своих караульные карабины, здесь, в самом центре страны, они сейчас были призвапы олицетворять своим бдением главную мощь давно изжившей себя идеи, и вместо того чтобы заниматься полезным и нужным для жизни делом, любить женщин, играть с детьми, работать или учиться думать и постигать, они стояли с замершими лицами, искоса поглядывая на почти постоянно и даже далеко за полночь толпившихся перед Мавзолеем людей; четверть часа пролетело быстро; но в этот раз сменившиеся ощутили какую-то странность своих легких карабинов, их приклады нельзя было приподнять от земли, они как бы намертво прикипели к самому ядру старой площади. Ни один из курсантов не выдал себя даже друг перед другом; затем совершенно неожиданно площадь перед Мавзолеем очистилась, обезлюдела, лишь где-то на противоположной ее стороне вдоль приземисто длинного здания с широкими окнами текла тоненькая струйка прохожих к гостинице, ярко пылавшей сотнями окон. Курсанты реагировали на происходившее совершенно по-разному; один продолжал держаться ва ствол своего карабина, лишь время от времени, не веря случившемуся, незаметно подергивал его вверх, пытаясь оторвать приклад от какой-то захватившей его свинцовой тяжести; второй же, еще с детских лет увлеченный историей и мечтавший ликвидировать трагический разрыв в истории славянства между христианством и язычеством, почти не обращал на окружавших внимания; в его молодых мозгах под форменной фуражкой закружились совершенно иные мысли, и он думал о мумии человека, вот уже несколько десятков лет выставленной на всеобщее обозрение, конечно же, без его согласия. «Смерть есть величайшая из тайн бытия, никто ничего о ней не знает и никто не вправе вторгаться в эту тайну, даже вот таким образом, как сейчас, когда это пытаются объяснить бессмертием идеи и необходимостью ее укрепления, — думал честолюбивый молодой человек. — И это чушь, бессмертных идей нет и быть не может, просто придумавший эту загробную жизнь, пожалуй, непереносимо ненавидел покойного, хотел укрепить этим свое положение, по сути дела, он жил инстинктами, в данном случае им руководил культ предков и божественное их почитание приравнивалось к защите самого неба».
Молодой курсант, всегда мечтавший об университете, решил года через три-четыре обязательно написать документальную работу по этому вопросу, но тут все выскочило у него из головы; он хорошо видел лицо своего напарника, у него и у самого вдруг словно остановилось дыхание и тело превратилось в ледяную глыбу; из руки выпал карабин, стукнувшись о гранитную стену и шаркнув по ней вниз. Дверь Мавзолея стала медленно приоткрываться, из нее пахнул тепловатый, специфический сухой воздух. Затем в дверях сгустился и обрел вполне реальные очертания силуэт человека в кителе с застывшим, знакомым лицом; не глядя на часовых, он легким и беззвучным шагом свернул за угол и сразу же исчез, а створы двери подземного святилища так же беззвучно сомкнулись. Еще чувствуя какой-то особый, не отпускающий холод, курсанты переглянулись; они не слышали, но чувствовали, как он неторопливо поднимается по гранитным ступеням наверх, на Мавзолей; часовой, выпустивший из рук карабин, дрожа всем телом, быстро поднял его; площадь перед Мавзолеем по-прежнему оставалась совершенно пустынной. Переводя дыхание и выждав, курсанты, не удержавшись от искушения, невзирая па наличие сверхчувствительной электроники, пошептались об удивительном событии. «Он, я сам видел, это — он!» — шепнул, почти задерживая дыхание, первый, тот, что грезил об истории. «Конечно, он! — ответил второй, тараща округлившиеся глаза. — Но почему же из этих дверей? Он же лежит отдельно». — «Наверное, там под землей все друг с другом связано, — предположил первый. — Это ведь очень древняя земля». — «Может, сразу доложить? — спросил второй. — А то как-то жутковато…» — «Хочешь в психушку — доложи, — отрезал первый. — А я ничего не видел… Так, ветер… фонари… Тише, молчи, он наверху стоит. Я его чувствую… Через камень давит…» «Может, тревогу дать?» — «Молчи… спятил… Не трогает, и молчи. Проболтаешься, дурак, откажусь. Я ничего не видел и не знаю», — вновь оборвал первый, и оба ощутили отяжелившую сердце и мешавшую дышать тишину, плотными волнами накрывшую Красную площадь, Василия Блаженного, Москву и распространяющуюся все дальше и дальше; центр этот неживой тишины находился у них над головой и вот-вот готов был проломить камень и обрушиться на них. Но ничего этого не зпал и не мог знать сам Сталин, стоявший на верхней площадке Мавзолея, у парапета, на своем привычном месте; он внимательно и зорко осматривал знакомое пространство, и его сердил огромный, горящий сотнями окон белокаменный четырехугольник, вознесшийся за храмом Василия Блаженного неизвестно когда и почему. Тяжелая, словно налитая свинцом голова отходила медленно; он ощутил чье-то присутствие у себя за спиной и, не оглядываясь, уронил:
«А теперь тебе что опять надо? На этот раз я уж никак не мог думать о тебе. Тем более — звать». — «Как же я тебя оставлю, — коротко ответил летописец с сомкнувшимися на черепе пролысинами. — Ты меня породил, я много лет честно стоял с тобой плечом к плечу. Вспомни, о чем мы с тобой только не говорили. Если вскрыть эту коробку, — летописец слегка хлопнул себя ладонью по лбу, — там окажется чуть ли не весь двадцатый век со всем его хламом. Теперь же, когда пришла пора подурачиться, ты меня прогоняешь. Меня ты тоже должен понять. Как-то не по-христиански, Coco, не ожидал от тебя. Ведь только со мной ты был откровенен до конца. Хорошо, хорошо, молчу. Правда, захватывающее зрелище?» — «Странно, — ответил Сталин, — какой-то один бесконечный сон. Зачем человек так слаб, не в силах даже проснуться». — «Да», — сказал летописец, всматриваясь в необозримую, светящуюся в тихом перламутре, преобразившуюся площадь, безоглядно окаймленную режущими лучами бесчисленных прожекторов, уходящих далеко за пределы самой Москвы и как бы приподнимающих из провальной чаши тьмы над самой землей всю площадь с Василием Блаженным, со стрельчатыми башнями Кремля. Закрывавшее небо, раздражавшее Сталина, нелепое кубическое здание за собором провалилось, зато поднялся на своем месте храм Христа Спасителя, и не только поднялся, но как бы и утвердился над башнями Кремля с правой стороны, тускло сияя в небе всеми своими куполами, и Сталин боковым зрением видел в перламутровом блеске ночи мерцание его широкого главного купола и, кося глазом в сторону летописца, мучительно радовался этому.