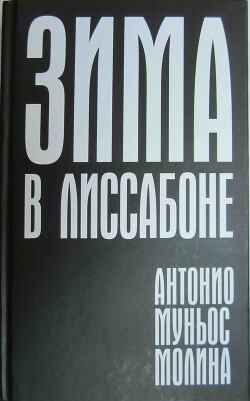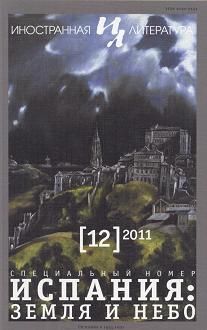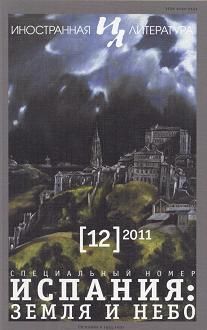Бельтенеброс - Молина Антонио Муньос
Он воссоздал мадридскую подпольную организацию практически с нуля, для начала выбрав прикрытием ремесло уличного фотографа, которое позволило ему ходить по домам глубоко законспирированных сообщников, а затем сделался фиктивным антрепренером банкетов по случаю первого причастия, организуя под этим предлогом первые тайные собрания, и все это в полной изоляции от зарубежья и без какой-либо иной помощи, кроме содействия Ребеки Осорио. «Как двое выживших в кораблекрушении, — сказала она мне однажды, — обреченных на вечное одиночество на всеми забытом берегу». За несколько месяцев до моего появления в кинотеатр «Универсаль синема» с просьбой об убежище обратился человек. Звали его Вальдивия. С тридцать седьмого и вплоть до падения Мадрида он, как и я, работал в военной разведке. Я лично направил его в кинотеатр — с целью наблюдения за Вальтером, сбора доказательств его виновности и проработки детального сценария его устранения. Когда Ребека Осорио сопровождала меня по закоулкам кинотеатра в проекторскую, в глазах Вальтера уже поселилось отсутствующее выражение, свойственное тому, кому вскоре предстоит умереть, только он об этом еще не догадывается. Вальтер протянул мне руку, оказавшуюся пошире моей, сказал, что наслышан обо мне и вроде как даже где-то меня видел. Вероятно, мы пересекались во время войны, но толком этой встречи не запомнили. Снуя между разными аппаратами, с сигаретой во рту, с засученными до локтя рукавами, он походил на механика парохода.
— Давно было пора, чтобы к нам кто-нибудь да пожаловал, — сказал он, не глядя. Произнося это, он слегка отвернулся, будто внезапно заметил что-то интересное на полу или прислушивался к изменившемуся звуку проектора. — Вспомнили, стало быть, о нашем существовании.
— Он привез нам сообщение из Парижа, — сказала Ребека Осорио.
Сообщение, — повторил Вальтер, букву «щ» он выговаривал плохо. — Деньги — вот что нам действительно нужно. Деньги и оружие, а не сообщения. И люди сюда, назад, понимаете? Вернулись бы из Парижа и Москвы и подсобили бы нам — тем, кто остался. Здесь дольше четырех-пяти месяцев не протянуть, а когда кто-то выпадает, на его место должен встать другой. И так каждый день — оттуда ведь никто не выходит.
— Вы протянули больше пяти лет, — возразил я.
— Я почти ничем не рискую. Отсюда выхожу очень редко. — Он взглянул на Ребеку Осорио. — Мне не разрешают.
— Теперь, когда война в Европе закончена, все пойдет по-другому, — собственный голос слышался мне словно со стороны, как голос диктора по радио. — Союзники нам помогут.
— Чьи союзники? — Улыбка Вальтера оказалась также скошена на сторону, как и взгляд. — Не наши. И нашими они никогда не были. Им до нас дела не больше, чем до какого-нибудь африканского племени.
И тут он взглянул на меня серыми раскосыми глазами, собираясь, должно быть, оценить эффект от прозвучавшего в его словах недоверия, от горестной непокорности. Я подумал, что немногие из оставшихся могут похвалиться такой силой духа. Повисшая между нами пауза положила начало той внутренней битве, в которой не участвовали ни слова, ни даже взгляды. Для Вальтера страх был холодной составляющей рассудка. Когда я заговорил, то постарался сделать так, чтобы в голосе прозвучал намек на откровение, на некое тайное знание.
— Очень скоро начнется вторжение, — поведал я, ожидая вопросов с его стороны. Но он не задал ни одного.
— Пойдемте со мной, — заговорила Ребека Осорио, ощутив неловкость затянувшегося молчания, и каждый из нас троих хорошо понимал, что она предлагает перемирие. — Я провожу вас в гости к Вальдивии.
— Расскажите ему о скором вторжении, — Вальтер снова занялся проектором. — Поведайте ему, как союзники вот-вот перейдут границу в Пиренеях. Погладим, не зарубцуются ли от этого известия его раны.
Стены проекторской будки были увешаны афишами и рукописными программками довоенных кинофильмов. Жизнерадостно цвели улыбки на потускневших от времени лицах белокурых актрис. Сильно пахло разогретой пленкой, прокатывался рокот морских волн, звучали крики «на абордаж!»: по другую сторону маленького прямоугольного окошка, откуда выходил конический луч проектора, рассекая на две половины, строго по центру, темноту зала, на огромном экране разворачивалось действие картины, где Кларк Гейбл, озвученный испанским попугаем, играл роль предводителя мятежников. Мне так и не удалось посмотреть этот фильм целиком, но в последующие дни не раз приходилось слышать его звуки.
До сих пор звучат во мне те голоса из кино, как и рокот прибоя, шум волн в Брайтоне, с сухим стуком накатывающих на берег и тянущих за собой гальку, — рокот такой далекий и такой близкий, с навязчивостью метронома в темно-зеленом свете утра, когда море растревожено приближением бури, а вода становится вдруг и глубокой, и далекой на том же, хорошо знакомом тебе берегу; отражающая тучи и отливающая бронзой вода, нечеловеческая и яростная, что бьется о железные опоры мола.
С четырех часов дня до полуночи, до конца последнего сеанса, шум прибоя звучал в коридорах и комнатах «Универсаль синема», а потом вдруг воцарялась тишина, подобная спокойствию тихого, безветренного утра. А затем в здании возникал другой звук: как ритмичное движение маятника, он присутствовал всегда, неразличимый в грохоте звукоусилителей, но лишь тогда начинал проявлять упрямую настойчивость. Это была пишущая машинка Ребеки Осорио, стучавшая порой всю ночь напролет.
Косметикой Ребека не пользовалась, да и одевалась небрежно. В тот первый день, когда она провожала меня в комнату Вальдивии, шагая впереди, время от времени бросая мне отдельные фразы, словно спешащая по делам медсестра, я решил, что она не слишком привлекательна или же не желает быть таковой — то ли из-за влияния тусклого Вальтера, то ли из-за ставшего привычным затворничества в кинотеатре. Ей был присущ легкий налет того добровольного пренебрежения собой, который замечаешь в женах слепцов и англиканских пасторов, заметные следы какой-то суровости по отношению к себе и собственному телу — забытая красота, не возведенная в собственных глазах на пьедестал ни зеркалами, ни взглядом серых глаз ее мужчины. «Не обижайтесь на Вальтера, сказала она мне, — извините его: в последнее время ему пришлось нелегко, как и всем нам». Она всегда чувствовала потребность защитить его, объяснить то, о чем он умалчивал или чего не мог выразить, — как будто взяла на себя обязательство помогать ему существовать в чужом для него мире, зная, что он здесь не очень ловок, закованный в броню великого человека, уязвимый в самом своем бесстрашии. В ней же, в прямоте и прозрачности ее взгляда, сквозил фанатичный инстинкт упрямства и разрушения: ради спасения Вальтера она была готова отречься от себя самой, и собственная ее жизнь значила для нее меньше, чем любовь.
Вальдивию они поселили на чердаке, прямо над зрительным залом. «Ступайте здесь осторожненько, — предупредила меня Ребека Осорио еще перед дверью, — внизу нас могут услышать». Казалось, что вместо пола там — лист фанеры и слой гипса, который обязательно провалится, стоит на него наступить: я представил себе огромность пространства под ногами, и от этой мысли у меня закружилась голова, будто я стоял на краю пропасти. Часть ската крыши оказалась застекленной, однако скудный свет зимнего вечера скрадывал очертания предметов, едва позволяя разглядеть черты лица мужчины, сидящего на кровати без малейшего движения, словно уснувшего. Даже не подходя к Вальдивии, я узнал его по темным стеклам очков — столь же непременному атрибуту его лица, как рот или нос. Бесцветные и вечно слезящиеся глаза его не выносили света. Спиной он опирался на металлические прутья высокого изголовья кровати, а его грудь и левое плечо были в бинтах. Я подумал, что его, наверное, терзает рана и боль не позволяет ему лечь.
«Смотри, кого я к тебе привела», — проговорила Ребека Осорио и сделала шаг в сторону, уступив мне дорогу, как сделала бы медсестра, с выражением сердечного участия и нежной заботы. Вальдивия раненой рукой снял очки и очень осторожно потянулся к тумбочке, пока не опустил их на ее поверхность. Я подумал, что он, должно быть, спал и теперь медленно возвращается к реальности. Воспаленные красные глаза продолжали взирать на меня строгим взглядом. Он произнес мое имя и потянулся обнять, но не смог. Не сводя с меня глаз, он не отпускал мою руку — бледный, измученный болью и жаром, еще не сказав ни слова, будто утратив дар речи, вынужденный одним лишь взглядом и кратким пожатием руки засвидетельствовать нашу дружбу. Мир, к которому мы когда-то принадлежали, давно исчез, погрузившись на дно, как проглоченный морем континент, однако он, Вальдивия, пребывал все там же: недвижим, как скала посреди катастрофы, возвышаясь в постели на подушках, глядя в этот мир больными глазами, внимательный ко всему, — к моему появлению в том числе, — нетерпеливо жаждущий отринуть тягостную скуку выздоровления и оживить наши совместные воспоминания, припомнив сотрудничество прошлых дней и то славное время, когда оба мы научились равно отвергать и уныние, и сострадание. Сейчас, как и тогда, нас объединяла общая миссия — борьба с изменой, и никакого значения не имело ни то, что на нас теперь не было военной формы, ни то, что закон, соблюдать который мы присягали, был сметен победителем: закон выжил, он пребывал в нас — нетленный, как и наша гордость, возрожденный нашей решимостью исполнить его.