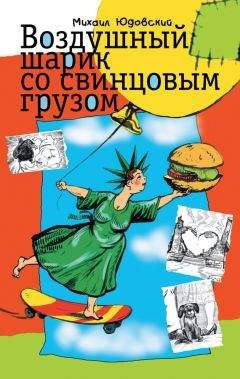Сволочь - Юдовский Михаил Борисович
Она протянула мне книгу отзывов. Я подумал и написал: «The Eleventh Commandment: thou shalt not borrow from the dead. September 29, 1987. Moses». [31]
После истории в музее Ярик несколько раз предлагал мне открыть американский охотничий сезон в центре города, но у меня все не было настроения. Кроме того, я помирился с Дашей — видимо, только для того, чтобы через пару недель снова с ней поссориться. Подобные перепады стали для нас чем-то хроническим, вроде запоев. Как ни странно, первой на мировую всегда шла Даша. При всем своем эгоизме она с чуткостью барометра угадывала мое внутреннее состояние и делала шаг навстречу, но делала его так, словно снисходительно прощала меня. А когда я из ощетинившегося дикобраза превращался в ручного мопса, вновь становилась собой — властной, холодной и неприступной.
Ярика Даша переносила с трудом — непутевый, легкомысленный и совершенно беззлобный, он почему-то приводил ее в бешенство.
— Не понимаю, как ты можешь общаться с этим человеком, — говорила она.
— С ним легко, — отвечал я.
— И все?
— А разве мало?
— По-моему, мало.
— Хорошо. Он смешной, нелепый, безответственный, ленивый, без особых моральных принципов. Этого достаточно?
— Тебе нравятся такие люди?
— Естественно.
— Это как раз противоестественно.
— Для кого как.
— Подобные личности ничего в этой жизни не добьются.
— Зато никого не добьют.
Даша устало вздыхала.
— Я знаю, почему он тебе нравится.
— Почему?
— Потому что ты и сам такой. Беспринципный аморальный тип, начисто лишенный целеустремленности.
— Надеюсь, что так. Любимое занятие принципиальных моралистов — целеустремленно шагать по трупам.
— А твое любимое занятие какое?
— Отпускать на волю воздушные шарики. Им так хочется улететь, а какая-то сволочь держит их за нитку или привязывает к чему-нибудь тяжелому. Одна сила тянет вверх, другая вниз, а в итоге остается одно — бездарно покачиваться из стороны в сторону.
За этими ссорами, институтскими занятиями, частными уроками и прочей суетой как-то быстро и незаметно миновала осень. Роскошная желтизна сменилась удручающей серостью, деревья стали похожи на почерневшие скелеты, мрачными шеренгами выстроившиеся вдоль улиц. В середине декабря насыпало немного снега, но продержался он не больше суток, малодушно растаяв и превратившись в омерзительную слякоть. В один из таких слякотных дней мне снова позвонил Ярик.
— Есть две новости, — сообщил он. — И обе хорошие. С какой начать?
Я подумал и ответил:
— Начни с хорошей.
— Так обе хорошие!
— С обеих и начни.
— Попытаюсь. У отца на работе распределяли путевки. На январь. В Прикарпатье, в Яремче. Ну, это городок такой на Гуцульщине…
— И что?
— Он взял две. Одна — твоя.
— А вторая?
— Путевка?
— Хорошая новость.
— А-а. Здравый смысл победил во мне благородство.
— Это, конечно, радует. И в чем заключается победа?
— Понимаешь, сначала я хотел предложить вторую путевку твоей Даше. А потом подумал: кто ж едет в Тулу со своим самоваром?
— В какую Тулу?
— Я образно. Ехать в Крым или в Карпаты со своей барышней — все равно что прийти в ресторан с докторской колбасой. Короче, благородство побоку, едем вдвоем, ты и я. А уж на месте разгуляемся. Представь: тут слякотный Киев, печальные старушки под зонтами, а там горы, снега и девушки в ярких горнолыжных куртках. Короче, сдадим сессию — и вперед в Прикарпатье, к веселым гуцулам. Только у меня одно условие.
— Ярик, не наглей, — сказал я. — Я еще согласия не дал, а ты мне уже условия ставишь.
— Что значит не дал? — изумился Ярик. — Я ему предлагаю ключи от рая на целую неделю, а он еще раздумывает, брать или не брать. Считай, что это подарок от меня на Новый год.
— Вот как?
— Конечно. Друзья обязаны делать друг другу подарки. Я тебе подарю путевку в Яремче, а ты мне подаришь восемьдесят рублей.
— Почему восемьдесят?
— Это цена путевки. Теперь согласен?
— Горно-снежные девушки, — задумчиво проговорил я, — веселые гуцулы в спортивных куртках… Ладно, согласен. А что за условие?
— Будешь изображать там американца, — радостно объявил Ярик.
— Что?
— Говорю, американца будешь изображать.
— Ярослав, — сказал я, — вы идиот. Засуньте ваши путевки в ридикюль, берите извозчика и езжайте на нем к чертовой матери.
— А в чем, собственно, проблема?
— А проблема, собственно, в том, что я не собираюсь в течение семи дней делать вид, что не понимаю ни по-русски, ни по-украински, коверкать слова и улыбаться, как последний недоумок. Одно дело часок-другой поморочить голову музейной бабушке, но целую неделю тупо пялиться на людей, как карась на лунное затмение…
— Успокойся, — перебил Ярик, — незачем коверкать слова и пялиться, как карась. Легенда меняется. Ты будешь американцем наполовину. Допустим, мама у тебя американка, а папа такой же киевлянин, как все нормальные люди. Ты здесь родился, потом уехал в Америку, потом снова вернулся. Сам придумаешь. В общем, живешь ты здесь, по-русски говоришь не хуже, чем по-английски. Зато в любой момент можешь спокойно уехать в Штаты. Допустим, у твоей мамы в Америке свой дом.
— Белый? — спросил я.
— Почему белый?
— Хорошо звучит. У моей мамы свой Белый дом в Вашингтоне и в придачу своя Статуя Свободы в Нью-Йорке.
— Нью-Йорк — это пошло, — сказал Ярик. — И Вашингтон — тоже. Выбери какой-нибудь нейтральный город.
Я подумал и сказал:
— Бостон.
— Почему Бостон?
— У меня там приятель живет. Он этим летом с семьей в Америку уехал.
— Отлично! — обрадовался Ярик. — У тебя, можно сказать, глубокие американские корни. Что ты знаешь о Бостоне?
— Знаю, как он называется.
— Маловато. Ты бы в библиотеку сходил, почитал что-нибудь — про Бостон, про Америку.
— Обойдусь, — ответил я. — У меня своя голова на плечах. А книги твои библиотечные врут. Там пишут, что в Америке негров линчуют, а у нас в Бостоне, между прочим, мэр — мулат.
— Серьезно? — удивился Ярик.
— Почти наверняка, — ответил я. — Красавец-мужчина, сын массачусетского землевладельца и пуэрториканской танцовщицы. Борется за права нелегальных радиолюбителей и разводит мангустов.
— Рад за него. Короче, время подготовиться есть. Нужно будет купить несколько бутылок хорошего вина…
— Почему не водки?
— Девушки предпочитают вино.
— С каких пор ты стал девушкой?
— Я не о себе, дубина. И не о тебе, кстати. Я о девушках, которых мы пригласим в наш номер. Не водкой же их угощать.
— Я бы угостил.
— Какой-то ты неправильный американец, — вздохнул Ярик. — Неужели в Бостоне девушек водкой поят?
— В Бостоне девушек поят чаем, — сказал я. — Знаменитые бостонские чаепития. Тихий зимний вечер, снег за окном, в гостиной маминого дома потрескивают дрова в камине, а на чайном столике дымятся чашки с янтарным напитком. — Я всхлипнул.
— Ты чего? — обеспокоился Ярик.
— Ничего. Не обращай внимания. Сейчас пройдет.
— Что пройдет?
— Ностальгия, — сказал я. — Обыкновенная ностальгия. Можешь смеяться, но я, кажется, истосковался по Бостону.
Четыре недели спустя мы с Яриком сидели в плацкартном вагоне поезда, отправляющегося из Киева в Ивано-Франковск. Напротив расположились еще двое ребят из нашей группы, всего насчитывавшей девять парней, восемь девушек и одного сопровождающего — представителя какой-то туристической фирмы. Это был невысокий, но весьма плотный мужчина лет тридцати пяти с черными усами, утиным носом и ответственным выражением лица. На фоне нашей компании он смотрелся излишне солидно, разговаривал чересчур весомо и то и дело переводил взгляд с подопечных девушек на обручальное кольцо, плотно сжимавшее его мясистый безымянный палец.
Помимо нас в вагоне ехало несколько пестро одетых селянок с многочисленными корзинами, прикрытыми марлей, ближе к тамбуру расположились какие-то длинноусые мужчины в лоснящихся пиджаках поверх свитеров, вигоневых штанах, заправленных в сапоги, и вязаных гуцульских шапочках. Едва поезд тронулся, и те и другие, словно дождавшись команды, пришли в движение: селянки принялись доставать из корзин пирожки, закрученные в стеклянные банки соленья, жареных кур и прочую снедь; провизия мужчин была попроще — хлеб, домашняя колбаса, сыр, консервы, лук, а также огромные бутыли с домашним вином. Ели они молча и сосредоточенно, словно трапеза была частью повседневной работы.