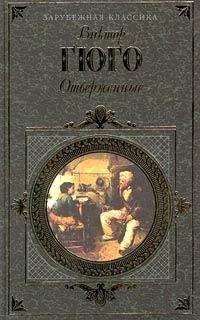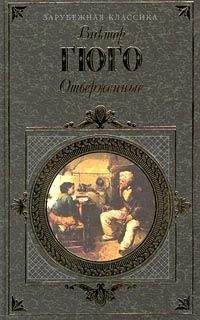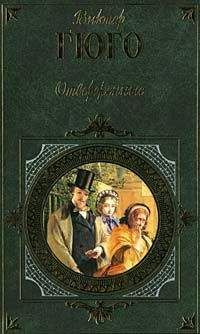Я — твоё солнце - Павленко Мари
Жаниз-через-з наблюдала за моим уходом взглядом кролика, который вдруг увидел прилавок мясника, — я никогда не разговаривала с ней подобным тоном.
Но всему есть предел.
Скотч уже ничего не клеил; распутав пальцы десять минут спустя, я всё-таки отрезала шесть более-менее липких кусочков и расположила их на краю стола. Затем достала предусмотрительно захваченную накануне подарочную бумагу и расправила её.
До меня доносился смутный шёпот.
Я резала красно-зелёную бумагу, время от времени выбрасывая обрезки в пластиковую корзину для бумаг. Может, приготовить подарок для Джамаля? Плюшевого тарантула, например. Уверена, подобные ужасы существуют. Или для Виктора? Временную татуировку в форме сердца, пронзённого кинжалом, с тупой надписью вроде «Дебора, любовь моя, жизнь моя…» готическими буквами?
Я напрягла слух: неразборчивая дискуссия переходила на повышенные тона, как на берегу моря, когда накатывают размашистые волны, но вдруг один барашек надувается, вода поднимается, округляет спину и ширится.
Звук усилился.
Кто говорит? Откуда этот шум? Я отложила наполовину упакованный подарок и осторожно прошла по кабинету.
Судя по резким крещендо, дискуссия развернулась жаркая. Я шагала, шагала… пока не дошла до батареи: звук поднимался по медной трубе. Приложив к ней ухо, я смогла ясно различить каждый произнесённый слог.
— Анна, только не говори, что ты ничего не замечала!
— Я доверяла тебе! Ты вообще знаешь, что такое доверие? Ты говорил, что работаешь, и я тебе верила! Ве-ри-ла!
Последний слог «ла» превратился в сдавленное всхлипывание. Я подсела поближе к трубе.
— Анна…
— Пусти меня! Я запрещаю тебе прикасаться ко мне, слышишь?!
Противостояние между спокойным тоном моего отца и тонким истерическим голоском мамы принимало ужасный оборот.
— Я не хочу причинять тебе боль…
— А, потому что сейчас мне не больно? Честное слово, в какого же идиота ты превратился!
В моей груди образовалась огромная дыра.
— Послушай, мне жаль, но надо смириться с реальностью! Элизабет ни в чём не виновата. Ситуация ухудшилась гораздо раньше.
— До того, как ты соврал… как ты… изменил мне… как ты начал обращаться со мной как с дерьмом, конечно!
— Ты сама знаешь, что это неправда. У нас была прекрасная история любви, я не сожалею ни об одной секунде, но она закончилась. Мы больше не любим друг друга… Я больше не люблю тебя.
Мама завопила во всё горло, и от её крика у меня волосы встали дыбом.
— Ты положил всему конец, даже не спросив меня! Ты и твоя шлюха!
Она страдала там в одиночестве, а я ничего не могла поделать.
— Анна…
— Не трогай меня, козёл!
— Послушай, давай поговорим спокойно…
— Спокойно? А чего ты от меня ждёшь, благословения? Окей, наслаждайтесь своим счастьем! А пока что собирай свои манатки и убирайся из квартиры, а главное — отвези меня домой! И речи быть не может праздновать Рождество здесь с твоей семьёй как ни в чём не бывало!
— Но они тут ни при чём!
А МНЕ ПЛЕВАТЬ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ!
ПЛЕВАТЬ!
Это был конец в прямом эфире. Мне стало противно: я должна была убежать, спрятаться, оставить их наедине — это их история, их история, — но меня словно загипнотизировали.
Мама стонала: её всхлипывания вырывались наружу и звенели в трубе. Я цеплялась за них.
— А Дебора? Ты о ней подумал?
— Да.
Я боялась дышать.
— И это всё, что ты можешь сказать? Да? ДА?! Охренеть. Она твоя дочь, это убьёт её.
— Она сильнее, чем ты думаешь.
— А, отлично, тогда никаких проблем!
— Я не это имел в виду. Я сам ей расскажу, как только мы вернёмся домой.
— Как ты можешь… блин, как ты можешь?
Дебора уже в курсе, мама.
Я выскочила из кабинета, свистнула Изидору, который тут же явился, схватила какую-то куртку наугад, и мы вышли.
На улочки обрушился жёлтый свет домов: семьи готовились к праздничному ужину, наспех доделывали рождественские торты, лакомились глазированными каштанами, пили чай с корицей, окутанные хвойным запахом украшенных елей. Выбравшись из этой картинки с открытки, я застегнула куртку (оказалось, бабушкину) и срезала через подлесок. Под ногами хрустели ветки и крошились сухие листья. Высунув язык, Изидор громко дышал, а из его пасти вырывались крохотные облачка пара.
Я шла быстро.
Вот и лес.
Больше никаких гадких секретов.
Мне полегчало. И стало грустно. В голове я прокручивала разговор родителей и слышала мамины вопли.
Наверное, их все слышали.
Сойдя с привычной тропинки, я повернула на алею справа — не останавливайся, продолжай, иди. Иди.
Мне теперь придётся переехать?
А отец познакомит меня со своей Бразильянкой? Заставит с ней видеться?
Зазвонил телефон. Я не ответила. Он снова зазвонил, я перевела его в беззвучный режим. Карман завибрировал. Изидор больше не принюхивался, не хотел в туалет и просто брёл, как и я.
Из чащи поднимался туман. Мутный молочный свет угасал, похожие на скелеты деревья чернели всё сильнее, но я продолжала. Потела. Лёгкие горели от морозного воздуха.
Хотелось бы мне позвонить Элоизе.
Но ей плевать.
— Да, ей плевать, всем плевать. Я могу тут сдохнуть — всем будет дважды плевать!
Изидор облизался и пустил гейзер слюней мне на ладонь. Я вытерла её о штаны.
Вперёд. Ритм шагов — мой щит.
Я перешагивала через корни деревьев, обрывала сухие листья и, потерев между пальцами, превращала их в пыль.
Плакала.
Кричала.
Какая-то птица улетела, наполнив хлопаньем крыльев весь лес.
Я рухнула на ствол вырванного с корнем дерева. Тяжело дыша, подбежал Изидор и прижался противным влажным носом к моей щеке.
— Уходи. Ты воняешь.
Он не двигался.
Я его оттолкнула.
— УХОДИ!
Изидор зевнул, посмотрел на меня, поджал хвост, но всё равно прижал ко мне голову.
И тогда я обвила его руками и прижала к себе. Сильно.
Он долго вилял хвостом.
Когда я поднялась, продрогнув до костей — ягодицы, наверное, превратились в два куска льда, — наступила ночь. Я посветила вокруг фонариком на телефоне, который время от времени вибрировал. Не хватало ещё потеряться и умереть в лесу от холода — теорема бы выиграла снова. Я задумалась, куда же идти, но, к счастью, в порыве ярости шагала прямо.
Тело весило несколько тонн. Мне не хотелось возвращаться, но деваться было некуда, так что я отправилась в путь, но медленно, прислушиваясь к лесу в темноте. Выключив телефон, я наслаждалась ночью.
Деревья росли так далеко от мамы, от отца, от Элоизы — от всей моей никчемной жизни. Они были такие высокие и равнодушные. Я обвила руками ствол столетнего дуба:
— Дедуля, дай мне сил.
Изидор не ждал меня и продолжал свой путь: его толстый зад мелькал среди папоротников.
Я последовала за ним, и мы добрались до тропинки.
В окне второго этажа мелькнул силуэт моего отца и тут же исчез. Мама поджидала на крыльце, укутавшись в синий свитер крупной вязки. Заметив меня, она пробежала по насыпной аллее — камушки заскрипели под её кроссовками — и набросилась на меня.
Я обняла маму: её рёбра можно пересчитать на ощупь.
— Ты меня напугала, так напугала! Очень!
— Извини…
Родственники столпились в прихожей и пялились на нас во все глаза, пытаясь лучше рассмотреть в темноте.
Мама всхлипывала:
— Моя малышка Дебора…
— Я знаю, мама. Я… я знаю.
— …ты нас слышала?
— Я знаю, вот и всё.
Можете себе представить атмосферу сочельника.
Неловкая тишина, красные глаза моей окончательной сдавшейся матери, беспокойные подмигивания бабули Зазу, отец, который загробным голосом просит передать соль.
И эта зараза Шарлотта, кидающаяся шпинатом в Изидора.
Взяв тарелку, я встала, обошла стол и влепила пощёчину прямо в округлую щёку всемогущего ребёнка.
Мой дядя, муж Жаниз — через-з, отругал меня голосом статуи Командора из «Дон Жуана».