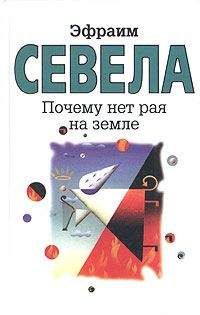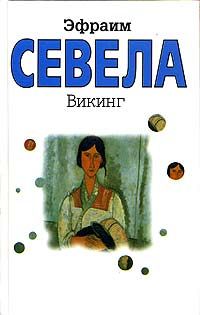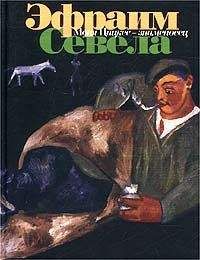Леонид Зорин - Глас народа
— Баловать он у нас любитель, — сказал Геннадий.
— Не то, что ты, — она откровенно развеселилась.
— А потому что мне известно, — сказал назидательно Геннадий. — Жизнь — одно, баловство — другое.
— Мне много… — сказала она озабоченно. — Хотя… Я девочек угощу.
— Я говорил, — сказал Геннадий. И поглядел победоносно.
Они занесли подарки в палату, почтительно поздоровались с женщиной, лежавшей под байковым одеялом — и вышли на воздух, пройтись по дорожке, подальше от любопытных глаз.
Уже начинало слегка темнеть, над территорией рокотала лирическая радиомузыка. Из черного рупора разносилось: «Здесь, на предгорьях Алтая, голос не слышится твой…».
Путь до Алтая с его предгорьями долог, загадочен и далек, но тенор из рупора был убедителен, и верилось, моя золотая, в скорую встречу с тобой.
Вера Сергеевна стала в середке, чтоб взять их под руки, но, к сожалению, тут и произошла неувязка — Геннадий был ниже почти на голову, и толком не удавалось приладиться. Он потемнел, квадратный затылок напрягся, стал багрового цвета.
Вера Сергеевна привыкла, что он по сю пору никак не смирится с тем, что уступает ей в росте, и постаралась свести все к шутке:
— Вымахала не в мать, не в отца, — сказала она с виноватой улыбкой.
Но неувязка произошла в присутствии третьего человека.
Геннадий сердито проговорил:
— Не баба — коломенская верста.
Жолудев болезненно сморщился, она остерегающе сжала локоть соседа, заговорила о чем-то неважном и несущественном.
В конце концов, они приспособились и зашагали по льдистой аллейке, присыпанной еле приметным песком. Встречные люди на них поглядывали, особенно женщины — Вера Сергеевна успела со многими перезнакомиться. Она отвечала на приветствия с достоинством, с чуть смущенной улыбкой. Было и приятно и лестно, что к ней приехали сразу два гостя. Она представила, как перед сном женщины станут ее расспрашивать, и ощутила, что густо краснеет.
— Как чувствуете себя, Вера Сергеевна? — заботливо спросил ее Жолудев. — Толковый ли доктор? Что говорит вам?
Она улыбнулась.
— Доктор хороший. Да что говорит? Все больше пошучивает. Есть в моей палате больная, женщина славная, но беспокойная. Она все допытывается: вы мне скажите, долго еще я буду маяться? Он отвечает ей: если долго, это большая ваша удача.
— Шутейник хренов. Тебе что сказал-то? — ворчал Геннадий.
— Да ничего. Ну что он мне скажет, сам подумай. Десяток лет по этому делу, все уже знаю не хуже его. «Возьмитесь за ум, займитесь собою».
«Господи, — молча дивился Жолудев, — ну что же мне так дорога эта женщина?»
— Много работы у вас, Ванюша? — мягко спросила Вера Сергеевна.
Ответил со вздохом:
— Работы хватает. Будет и больше. К весне поближе.
Геннадий неожиданно бросил:
— Он трудится по полной программе.
«Злится на что-то», — подумал Жолудев.
Заговорились и не заметили, что могут опоздать на автобус. Стали торопливо прощаться.
Вера Сергеевна сказала:
— Спасибо, мальчики, что навестили. Живите дружно. Скоро приеду.
— Не торопитесь, — промолвил Жолудев. — Самое важное: результат.
Она сказала:
— Буду стараться. Ну, новые легкие не поставишь. Спасибо вам. Запахнитесь получше.
Но на автобус они опоздали.
— Так я и знал, — сказал Геннадий. — Когда начинаются церемонии, всегда получается всякая хрень.
Узнали, что следующий автобус придет через полтора часа, а может — и позже, ходит не точно. Решили пешком добраться до станции.
— Шагай без спеха, — сказал Геннадий. — Иначе дыхалка подведет.
— Я знаю.
— Еще бы. Ты все у нас знаешь. Но только не балабонь на ходу. Идти надо молча. Это — закон.
Спустя полчаса миновали кладбище. Иван Эдуардович горько смотрел на покосившиеся кресты, на запорошенные надгробья, на многих уже не прочтешь ни буковки — в душе его поднималась тоска. «Нелепая мне выпала жизнь, — подумал он, — какая-то выморочная, нескладная, с глупыми перепадами».
Он стал уставать. Дышать было трудно. И все же упрямо брел за Геннадием, смотрел в напружинившийся затылок.
Студеный воздух большими хлопьями все гуще и злей набивался в грудь. Геннадий спросил:
— Подмерз?
— Пожалуй. Еще далеко нам?
— Ближе, чем было. Беседку видишь? Передохнем. А там еще один марш-бросок. Туман догоняет, будь он неладен.
В беседке Геннадий достал бутылку и весело подмигнул:
— Припас. Как будто бы знал, без нее не вырулишь.
Он сделал три обильных глотка и передал бутылку Жолудеву.
— Согрейся. Тебе не помешает. Пей из горла€, стакано€в тут нет.
Жолудев мысленно содрогнулся, но превозмог себя — отхлебнул.
Геннадий сказал:
— Этот туман много съест снега. Но будет теплее. Заморозки — при ясной погоде. А коли облачно — их не будет.
Потом он медленно произнес:
— Есть у меня к тебе разговор. Ты мне признайся: ты — глас народа? Только не ври. Я твой голос знаю.
Иван Эдуардович помолчал, негромко сказал:
— Да, это я.
— То-то, — Геннадий потер ладони и рассмеялся удовлетворенно. — Меня не обманешь. Я сразу признал. И говоришь ты, ровно поешь, и голос у тебя, как у кенара, а никогда я тебе не верил. Чувствовал, что кривой человек.
— Не знаю, что тебя так расстроило, — нервно сказал Иван Эдуардович. — Я просто делаю свое дело.
— Важно понять, какое дело. Твое дело — болеть за Россию?
— А что тут дурного? — откликнулся Жолудев. — Чем это тебя задевает?
— А тем, что не вешай лапшу мне на уши, — резко прервал его Геннадий. — По-твоему, я народ или нет?
— Все мы — народ.
— Все, да не все. Думаешь, Иваном назвали, ты уже свой? Мало ли что… Щенка по-всякому можно назвать, но если ты — пащенок, значит — пащенок. Дал я тебе такое право, чтоб ты заявил, что ты — мой глас?
Жолудев побелел от обиды.
— Ты сам мне скажи, кто дал тебе право давать мне право?
— А ты подумай. Кто в зоне трубил? Ты или я?
— Однако любопытно ты мыслишь, — запальчиво возразил ему Жолудев. — По-твоему, зона — наш высший суд? А те, кто на воле, — они не в счет?
Геннадий подумал и жадно выдохнул:
— Нет, не поймешь. Мы так устроены: нам воля и зона — один каравай. Подумай, треть России за проволокой. Либо была уже, либо будет. Кто — от тоски, а кто — от скуки. Жизнь проходит, а дня ото дня и ночи от ночи не отличишь. Ты поначалу раскинь мозгами, допреж чем по радио песни петь.
Его ореховое лицо стало как будто еще темнее. Голос то звенел, то срывался, казалось, ему не хватает воздуха.
«Господи, как он меня ненавидит», — мысленно изумился Жолудев. И неожиданно для себя подумал: «Неужто отец и впрямь с умыслом мне дал это имя, хотел защитить меня от беды? Напрасно. Попытка с негодными средствами».
Похоже, Геннадий слегка остыл. Сказал едва ли не миролюбиво:
— Одна беда, мы люди завистливые. Соседу плохо — нам хорошо. Помнишь, как Тит молился Господу? «Пошли удачу, пошли удачу». Бог отвечает: «Проси, что хочешь. Но помни — соседу вдвое достанется». Тит покряхтел и попросил: «Господи, выдави мне глаз».
Жолудев тоскливо кивнул. И сразу же вспомнил: «Возглавить зависть». Ему захотелось громко завыть. «Не нужно мне было с ним пить — абсурд! Я не согрелся, но опьянел и ничего не соображаю».
Он горестно покачал головой.
— А имя… имя мое нелепо…
Геннадий допил бутылку до донышка, тыльной стороною ладони утер свои губы и вдруг спросил:
— Чего ты прибился к нашей семье, ровно переступень к плетню?
— Я не навязывался, — сказал Жолудев.
Геннадий оскалился и произнес:
— Признайся, сладкая у меня баба?
И, не дожидаясь ответа, ударил Жолудева бутылкой по наклоненной голове.
12
Жолудева хватились не сразу. Прошло, по крайней мере, три дня, когда забеспокоился Лецкий, а там и старуха Спасова вспомнила, что видела, как днем в воскресенье он вышел с Геннадием из дому — в руке у него была черная сумка.
Геннадий сдавал свою территорию частями, цепляясь за каждую пядь. Поехали навестить жену его, вернулись, куда сосед подевался — не знает. Он соседу не нянька.
Однако ему не повезло. Зато не в пример повезло Жолудеву. Он выжил, хотя надежд почти не было. Более суток лежал на морозе с черепно-мозговой травмой. Без документов, без бумажонки, которая могла б подсказать, кто он, установить его личность. Уже отходящий Иван Эдуардович попал в замызганную больничку и в ней-то нашел свое спасение. Врач оказался — хирург от Бога.
Впрочем, пришел он в себя не скоро. Долго не мог связать двух слов. Когда же сознание прояснилось, понял, что потерял свой голос. Из горла с усилием вырывался какой-то невнятный сиплый клекот.
Но это не слишком его огорчило. Он чувствовал, что утратил потребность в прежнем общении с внешним миром. Все думал о странной своей судьбе, о том, как едва не свалял дурака, примеривался к безумной роли трибуна, вожака, коновода. Какие партии могут тут быть? Какое имеют они значение? Тем более, какое значение имеют все те, кто ими командует? Все это видимость, прах и пыль, суть в том, что за каждым углом — Геннадий, неважно какое он носит имя. И что у него на уме — неведомо.