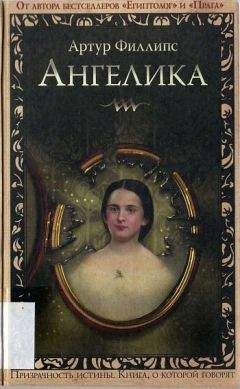Закир Дакенов - Вышка
Я медленно приблизил руки к приподнятому воротнику шинели, глядя на его шевелящиеся брови. Я ощутил пальцами колючесть воротника. Новая… Сначала приподнял шинель, чтобы не задеть спящего. А затем — снял ее тихо-тихо, не сводя глаз с его закрытых век.
Утром, когда караул вооружался, к нам подошел сержант Кацупа с четвертого взвода. Он был из молодых сержантов. Подошел к Зайцеву.
— Дай я у твоих шинели посмотрю? — попросил он.
— Зачем? — приподнял бровь Зайцев, неторопливо набивая магазин патронами. Щелк! Щелк!
— У моего чекиста шинель ночью украли. Может, твои…
— Иди отсюда, — сказал Зайцев, не поворачивая головы.
Щелк! Щелк!
— Нам же сегодня на жилую, — говорил Кацупа, глядя ему в лицо. — В чем он на развод выйдет? — Он стоял, напрягшись, и губы его подрагивали.
Щелканье прекратилось.
— Ты уйдешь или нет? — Зайцев посмотрел на него внимательно.
Кацупа еще секунды две смотрел ему в глаза. И отошел. На вышке я нашел в кармане шинели письмо (шинели мы одевали под полушубок). Обратного адреса не было, просто написано внизу: «От Татьянки». Я развернул листок в крупную клетку. Он весь был усеян словами, даже на полях были приписки. Буквы не умещались в клетках… А в конце — красный отпечаток губ и строчки-завитушки:
Вспомни морозные ночи,
Вспомни весенние дни,
Вспомни Ольховскую школу,
Где познакомились мы!
Я отворачивался от летящих в лицо кусков мокрого снега, мусолил во рту потухший окурок и — читал. Не было вздрагивающей от ветра вышки, остекленевшего полушубка, и этого бешеного снега — не было. А были слова, выпрыгивающие из клеток:
«Милый-милый Андрюшенька!!! Как я рада, что наконец знаю, где ты теперь находишься. Теперь можно писать хоть каждый день. А я сама связала тебе носки. Только немножечко осталось довязать, и я сразу вышлю их тебе. И меду вышлю. У нас погода — не очень: туман, дождик, сырость… Зато у вас, наверно, зима — настоящая. Я даже завидую тебе. Хоть бы раз увидеть настоящую русскую зиму! А что ты делаешь в свободное время? С кем дружишь? Передай своим друзьям от меня огромный привет…»
Заканчивалось письмо так:
«Целую 1000000000 раз! Твоя навсегда Татьянка».
Я достал спички, зажег холодный окурок. И поднес дрожащий огонек к словам «где познакомились мы!». Слова сразу скривились, исчезли.
А когда черный шуршащий комок упал к ногам, на нем бледнели сгоревшие слова.
* * *Генерал вот-вот приедет. А завтра — строевой смотр. Вернулись со службы, опять щетка, мыло, сапоги в пене, вода хлещет. Потом — ножницы, полиэтилен, линейка. Шинели, шинели, шинели…
На вечерней поверке Вайсбард появился с линейкой. Подошел к одному. Наклонился, стал измерять расстояние от пола до края шинели.
— Где тридцать два сантиметра? Где тридцать два сантиметра? В быткомнату!
Подошел к другому. Есть тридцать два сантиметра. Нет номера взвода на бирке. Где? Что? В быткомнату!
Скоро в быткомнате не стало места, исправлять недостатки садились в коридоре.
— Через час доложите о готовности, — сказал замполит дежурному. И пошел, пощелкивая линейкой по голенищу ярко-черного сапога.
Через час выстроились.
У одного шинель оказалась не длиннее, а наоборот — короче.
— А чево я сделаю? — простуженно сипел солдат. И хлопал глазами. — Кусок пришью?
— Что хотите делайте. В быткомнату! Солдат побежал не в быткомнату, а вниз по лестнице. Наверное, в автороту.
— Значит, спать не хотим? — говорил замполит, щелкая линейкой.
Хотел батальон спать или не хотел, но отбоя все не было. Лязгали ножницы, удушливый запах хлорки резал горло; взад-вперед ходили и ходили солдаты…
— Да пошел он! — сказал Замятин. И замашистым шагом ушел на другую сторону — спать. Встали и ушли еще несколько.
— Все равно он поднимет, — говорил им Кучеров.
— Идет он… — отвечали те.
Еще раз построились. И осмотр закончился.
Началась вечерняя поверка.
— Ночная! — крикнули с правого фланга. Вайсбард пощелкивал ненужной уже линейкой, ничего на это не сказал. Наверное, он тоже устал.
Но тех, ушедших, он все-таки поднял. Поставил в строй и через несколько минут объявил отбой. А до этого из штаба прибегал посыльный.
Товарищ капитан, дежурный распорядился прислать пять человек. Штаб мыть.
— Командиры отделений! — сказал Вайсбард. Выдвинулись сержанты, повернулись к своим отделениям. Пробежали глазами.
— Та-ак. Кто? Мамаджанов! Спал на посту вчера? Спа-ал. Вперед!.. Бестужев! С зэком разговаривал? Вперед… Остапенко…
Выскочил из строя Мамаджанов, озираясь. Ухо красное. Еще четверо шли к посыльному… Пронесло…
* * *Мороз жжет глаза. Глаза слезятся, и ресницы тяжелеют.
— Три ухо! Три! — кричит Жигарев кому-то в строю.
Строевой смотр… Кажется, осмотрено все, что можно осмотреть, содержимое карманов — вдруг генерал поинтересуется, что у солдата в кармане; прической; правильностью расположения петлиц, погон, эмблем; наличием и отсутствием… Но — в первую очередь, конечно, расстояние от края шинели до пола. Почему именно это расстояние, когда на военнослужащем масса различных расстояний, которые должны соответствовать… Видно, это расстояние — главное.
Забелин стоял рядом, поглядывая то на взвод, то на приближающихся Жигарева и еще двух офицеров из штаба. Осталось еще что-то проверить.
Они подошли.
Начали зачитывать список личного состава. Все оказались на месте. Кроме Анисимова — его, как художника, комбат отослал украшать ленкомнату.
— Где Анисимов? — отрывисто спросил Жигарев.
Забелин начал объяснять.
— Что вы мне объясняете, лейтенант! — рявкнул Жигарев. — Вы — в армии или с девочками на пляже?!
Забелин порозовел до ушей.
— Немедленно поставьте подчиненного в строй. Лично!
— Есть, — козырнул взводный и быстрым шагом направился к казарме.
— Бегом, лейтенант! И чтоб я вас здесь больше не видел!
Жигареву хотелось еще что-нибудь крикнуть, но взводный наш уже скрылся за углом. И он повернулся к Зайцеву:
— Чей этот… как его?
— Анисимов, товарищ майор.
— Чей он солдат? Кто командир отделения?
— Я, сержант Кучеров, товарищ майор.
— Месяц без увольнительных, сержант!
— Есть месяц без увольнительных.
— Устав солдаты знают? — повернулся Жигарев к Зайцеву.
— Так точно, товарищ майор.
— Обязанности часового?
— Так точно.
— Применение оружия?..
* * *Сегодня генерал приедет точно. Сегодня взвод заступает на жилую, значит, генерал — наш.
С подъема Зайцев собрал наш призыв в быткомнате (отслуживших год во взводе не было).
— Ну что, гонять будем или сами тряпки возьмем?
— Гонять, — сказали хором.
— Тогда — вперед!
Мыльная пена шевелилась, как живая, блестела миллионами пузырьков, переливались радужно в свете лампочек. Крик стоял непрерывный. Скакали ремни, сапоги мелькали, табуреты летели кувырком.
— А ты что? — толкнул кто-то.
Стоял рядом Андрей. Взмокший. Рот набок. Глаза прыгают.
— Стоишь что? Я один гонять буду? А ты — кайфовать?
— Отойди к растакой матери! — заорал я. И взмахнул ремнем. И — хлясть! — по чьей-то спине. И еще раз.
Андрей уже где-то на лестнице — тоже наша территория.
Я смотрел на спину, по которой только что ударил… Секунда… вторая… третья… Нельзя так стоять! Нельзя. Но — ударить еще… Нет, никак. Злость пропала.
Злость вспыхнула, когда послышался приближающийся голос Зайцева:
— Не вижу усердия! Не вижу!
Злость вспыхнула оттого, что голос приближался, а я… я ничего не могу поделать, и сейчас опять…
— Бегом! — не узнавая своего голоса, крикнул я. И сама взлетела рука — ремень на мгновенье остановился в воздухе… — Хлясть!
— Бегом, падла!
— Давай, Лауров, давай, — бросил на ходу замкомвзвода.
И это кончилось. Завтрак.
— Садись!
Сел — и увидел перед собой того, кого ударил. Он не смотрел на меня, торопливо ел кашу. Без хлеба. Не досталось.
— На… — Я придвинул к нему два куска своего хлеба.
— Спасибо, — коротко сказал он. И опять опустил глаза в миску.
Ну что еще?..
Генерал появился, когда караул получал приказ.
Комбат приставил ладонь к шапке и успел сказать:
«Караул, слушай приказ», — дневальный закричал страшным голосом:
— БАТАЛЬОН, СМИРРРНА!!!
И сразу же вошел он. А за ним втекла большая толпа офицеров из штаба. Он был сухонький, с маленькой головой, на которой покачивалась дымчато-серая папаха. Глазки напирающие. Нос крючком. Яркие шелковые лампасы.
Генерал внимательно выслушал доклад Аржакова, потом повернулся к караулу. Папаха его, казалось, заняла всю казарму.