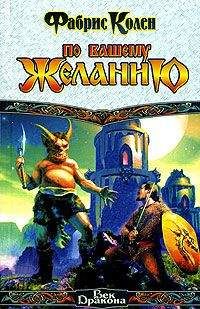Фабрис Колен - Синдром Годзиллы
Врач встал, подошел к окну и открыл его.
«Они прикончили меня», — выдохнул я наконец.
«Не думаю, что здесь причастен кто-то другой. Ты уже достаточно большой мальчик, чтобы никто не мог тебя прикончить, кроме тебя самого», — сказал врач, обернувшись, и сел на свое место».
Замкнутый круг
И я возвращаюсь. Я возвращаюсь в отель — улицы отворачиваются от меня: силуэты прохожих растворяются в воздухе, превращаются в легкий туман, в капельки росы. Освобожденные души вздрагивают от холода, оставшись без оболочки. Глубокая горечь заполняет собой городское пространство — все на грани исчезновения.
Я пытаюсь сосредоточиться на своем Я. Пытаюсь понять, в чем заключается его суть. Я вижу глубокие раны, причиненные нами друг другу, я вижу больничные койки, плачущих отцов и матерей, жен и мужей — в воздухе темно от их личных трагедий.
Линии горя бьются в воздухе, как мириады перепуганных до смерти птиц, траектории их полетов пересекаются. Голенастые и рахитичные, как дельтапланы на ходулях, не успевают они увернуться от адского пламени, как снова готовы в него попасть. Эта путаница из горя, как огромная черная сеть, покрывает весь мир.
Мой отель расположен в самом центре города. Я узнаю его из тысячи других, это единственное знакомое мне в городе здание. И я возвращаюсь туда, потому что мне просто больше некуда идти и потому что моя жизнь, и голос, и жизнь этого голоса — все ведет меня туда.
Мальчик on tape
«Токио раздражал меня. Я ненавидел Токио. И все-таки я задержался там еще на долгих два года. Я проходил курс комплексной терапии под индивидуальным наблюдением и параллельно мне снимали интоксикацию. Напрасный труд — Годзилла был ранен смертельно. Но никто из людей об этом еще не знал. Я не хотел никому говорить. Потому что не было на земле человека, которому я мог бы это доверить. Ни один не был достоин узнать это от меня.
В один прекрасный токийский день отец сообщил мне, что он снова женится. В этот раз на японке. К тому времени работа над проектом «Годзилла» была официально закрыта. Производящая компания медленно, но верно развалилась под тяжестью бесконечных судебных процессов. Вопрос о съемках чего бы то ни было не стоял вообще.
Мы проговорили с отцом до утра в прокуренном портовом баре, расположенном в районе токийских доков. Отец признался мне, что о многом жалеет в своей жизни. В частности о том, что не уделял мне должного внимания. Он пояснил, что именно теперь собирается исправить ошибки молодости, наверстать упущенное. Он попросил, чтобы я был свидетелем у него на свадьбе.
Я охотно согласился, только спросил, не смутит ли его болезнь свидетеля.
«Болезнь?! Какая болезнь?»
И я рассказал отцу всю правду. Вид у него был такой, как будто ему и впрямь досталось.
«Да не парься ты, старик, все не так плохо, — попытался я его успокоить. — Болезнь не успела зайти далеко, она не прогрессирует, и если я буду лечиться…»
«Почему ты не сказал мне об этом раньше?»
«Да все случай удобный не подворачивался», — попытался отшутиться я.
«Ты понимаешь, что это несправедливо с твоей стороны?»
«А жизнь вообще не блещет справедливостью, — вздохнул я, парировав в его же тоне. — Признайся ты во всем раньше, хотя бы на несколько лет, мы могли бы успеть и что-то сделать. Мы могли бы быть счастливы теперь. А вместо этого мы сидим здесь, как два дурака, пытаясь вернуть невозвратимое».
Отец заплакал. Я положил руку ему на плечо в знак примирения.
«Ладно-ладно, хватит, не раскисай. Это я во всем виноват, я должен был сразу рассказать тебе обо всем, пока еще что-то можно было поправить».
Через пару дней он познакомил меня со своей будущей женой. Она была молода. Красива. И ждала ребенка. Тебе может показаться это странным, но я тогда был искренне рад за них.
«Как это? Разве это возможно?».
Голос задумчиво помолчал.
Потом снова заговорил, но уже тихо, серьезно и очень доверительно.
«В глубине души я всегда мечтал об этом ребенке. Ведь ребенок это всегда шанс начать новую жизнь. Я сказал себе однажды: не все люди созданы для этой жизни. Есть незваные гости, которые приходят в этот мир, как говорится, некстати. Я был убежден тогда, что есть на свете обреченные судьбы, как есть неизбежные катастрофы. Хочешь жить — умей вертеться. Это правильно, и этому никто не учит.
Когда мой сводный брат родился, я купил ему в подарок огромного плюшевого медведя. А отец подарил мне на память кассету с записью родов и еще одну, которая не была подписана.
Я вернулся к себе.
И поставил безымянную кассету в видеомагнитофон. Это был фильм, который мы сняли: «Месть Годзиллы». Я сел и заплакал. Я плакал и не мог остановиться. На следующий день я собрал вещи и улетел в Штаты».
Крушение вечера
Вечер обрушился, как ненужная декорация, ночь упала, словно опущенный занавес, — спектакль отыгран, сцена больше не нужна. Я лежу на кровати у себя в гостиничном номере: уставший от ходьбы, от голоса, от поломанных жизней, от нереализованных альтернативных возможностей.
Перед тем как войти в комнату, я увидел на двери прикрепленную записку. Это было стихотворение.
В небе тянутся облака.
Приоткрытые губы.
Пятна от солнца в траве,
Мнется она.
Звонят,
А в тени у влюбленных —
Вечный полдень.
Не представляю, как ей удалось отыскать меня. Не знаю, что она хотела этим сказать. Но я уверен, это та самая молодая женщина, которую я встретил на похоронах матери. Я падаю на колени, мои руки скользят вниз, царапая дверь, я готов впиться в нее когтями. Господи, ну, почему, я ее не застал! Она так нужна мне сейчас. Так нужно, чтобы кто-то погладил меня по щеке, провел рукой по волосам и ласково сказал: «Все будет хорошо! Не бойся, не грусти».
Я присел у окна — день рассыпается на глазах.
Я засыпаю.
Включаю телевизор, чтобы не заснуть. Но сон — вот, кто настоящий хозяин положения, тиран, — не выпускает меня из своих цепких лап. Он сковывает меня и тянет ко дну.
Я встаю. Но тут же снова валюсь на кровать.
Глаза слипаются. Меня передергивает. Руки повисают, как плети с гирями на концах. Но вдруг на меня накатывает волна леденящего страха, и я мгновенно прихожу в себя. Только что я чуть не поскользнулся на краю сонной бездны. Я стоял на пороге сна и вовремя отшатнулся. Еще бы секунда — и все, я пропал. Я испытываю ужас. Я в холодном поту.
Бегу в ванную. И ничего не вижу в зеркале. По-прежнему ничего. Но на этот раз я себя чувствую. Я ощущаю свое тело. Я слышу свое дыхание, я чувствую, в каком положении натянуты сухожилия у меня на запястьях, чувствую, как мои пальцы вцепились в края умывальника. Я помню свое пустое лицо: лицо без лица, все, что от него осталось. Я затряс головой — я готов сделать все что угодно, лишь бы стереть из памяти этот жуткий образ. Чтобы изгнать из моего сознания этот чудовищный отпечаток.
Я выхожу на лестничную площадку.
Вызываю лифт. Двери открываются, я захожу.
На кнопках нет цифр, нет номеров этажей. Жму на самую нижнюю. Спуск начинается. Музыки тоже нет. Зато есть голос, который преследует меня. Я изо всех сил зажимаю уши руками и громко кричу, чтобы его не слышать больше, пока мы погружаемся под землю.
Двери выпускают меня.
В темноту.
Я с опаской делаю шаг в невидимое. За моей спиной захлопываются двери. У меня нет с собой ни фонарика, ни зажигалки, нет даже коробка со спичками.
Кончиками пальцев, как насекомые усиками, я касаюсь стены и ощупью продвигаюсь в черноту — меня поглощает невидимое ничто.
А потом
А что потом? В конце коридора я натыкаюсь на дверь. Толкаю ее. Поначалу я не могу ничего разобрать, потому что не ясно, что, в сущности, изменилось: здесь так же холодно и так же идет дождь. И еще потому, что преодоление этого отрезка пути займет такую же уйму времени. Но все изменилось, и на этот раз окончательно. Я вышел. Вы найдете меня под ночным дождем. Я стою на коленях. Вы найдете меня на берегу океана. Я оборачиваюсь к вам и задаю вопросы. Но никто мне ничего не отвечает. Я встаю, бессмысленно качая головой. Я думаю о своей маме, о нас с ней, о том, чем мы должны были стать друг для друга, но так и не стали. Вы тоже ничего не сможете с этим поделать.
На пустом тротуаре скучает телефонная будка.
У меня завалялась какая-то мелочь в кармане.
Я звоню отцу.
«Алло?»
«Пап, это ты?»
«О, Господи! Даниэль! Где ты? Я вызвал полицию, я…»
«Все хорошо».
«Что значит все и что хорошо? Ты можешь что-нибудь объяснить? Что ты хочешь этим сказать?»
«Я хочу сказать, что я жив и здоров. Хочу сказать, что я сделал одну важную вещь, очень важную, даже не одну, я…»