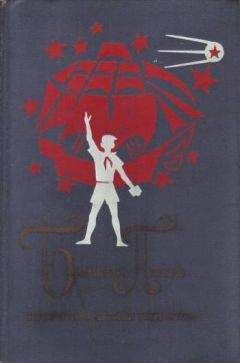Феликс Кандель - Слово за слово
– Когда?
– Да хоть когда.
И пошагала себе.
Сзади посмотришь – девчонка девчонкой.
Спереди посмотришь – лучше не смотреть.
– Чтобы было с кем воссоединяться, – сказали дети.
И теперь это надо было заесть.
Стоял. Глядел на угол, где переулок втыкался в улицу. Требовал любопытного до крайности.
Проехала в машине Танька Макарон – полный багажник девок, но он ее не заметил.
Шмулик, Танькин мужик, упрямый до крайности, непременно желает сына, а Танька, будто назло, выстреливает одних только девок: знай, мол, нашу бабью сибирскую породу.
Проехала в автобусе Фрида Талалай – с кладбища, от папы Талалая, воспоминаниями застланы глаза, но он ее не углядел.
Летели мимо стайкой, черными птицами на ветру, часто перебирали ногами, спорили, не замечали никого вокруг, – и Вова-хасид среди них, но он не отличил в толпе.
Парикмахер Сорокер, инженер Макарон, Любочка Усталло схоронились от глаз в этом городе и не казали себя.
Если город принял тебя, то это уже навечно.
Вышел на него от угла кузнечик Фишер.
С кошелкой в руке и букетом под мышкой.
– Тороплюсь, – сказал на ходу. – Миша приходит на побывку. Надо побаловать.
Они жили вдвоем.
Он и Миша-внук.
Когда Миша бывал дома, кузнечик Фишер вздыхал по ночам от счастья, слушая его дыхание из другой комнаты.
Им было хорошо вдвоем, но советов Миша не принимал.
Категорически.
Миша хотел всё сам.
Он был уже офицер. Две полоски на погонах. Служил в каких-то частях, о которых не принято расспрашивать. Фишер им гордился.
И Бердичевский погордился за компанию.
– Фишер, – сказал, попадая в шаг. – На вас ермолка.
Это было любопытно и требовало разъяснений.
Фишер застеснялся.
– Тянет, – сознался. – Это, вы знаете, город такой. Не отвертишься.
– И не надо, – сказал Бердичевский и отложил в памяти наметившуюся возможность.
Бога не находят и Бога не теряют.
С Богом рождаются.
Автобус разбежался по ровному месту, взобрался, покряхтывая, на гору, и встали дома с арками – длинной чередой вдоль обрывистых холмов.
Шел по дороге мальчик, замечательный ребенок, носом прокладывал себе путь, тащилась за ним на привязи кудлатая собака – уныло и обреченно.
– Это чья у тебя собака?– спросил Бердичевский.
– Это моя у меня собака, – ответил независимо.
– А раньше она была чья?
– А раньше она была ничья.
И не поглядел в глаза.
Этот ребенок был знаменит на всю округу.
Его боялись собаки и собаковладельцы.
Он приволакивал домой свирепых кобелей на цепи. Болонок на шпагатиках. Щенков за пазу-хой. Породистых с ошейником и шелудивых с помоек.
Отец отпускал их ночью на все четыре стороны, а назавтра к вечеру он деловито тащил за собой очередную собаку, прятал у дома в кустах.
Он был такой настырный, такой неумолимый – боксеры и овчарки удирали от него, поджав хвосты, а, настигнутые, покорно шли на веревке за ножками-спичками, которые перекусить – одна забава: они мослы бычьи раскусывали, эти собаки.
– Давай я тебе лучше машину подарю, – сказал Бердичевский. – Заводную.
– С ключиком? – оживился ребенок.
– Нет. С батарейкой.
– С батарейкой не хочу.
– Чего так?
– Батарейка кончится, – объяснил со вздохом, обстоятельно и по-стариковски, – а новую когда еще купят? Не допросишься. Всё потом да потом... У меня с батарейками, вон, полно машин, и все не ходят.
– А с ключиком у меня нет, – сказал Бердичевский.
– И у меня, – ответил ребенок и потащил пса дальше.
К собаке и ключика не надо.
Гулял возле дома всеобщий ненавистник Гринфельд, искал, к кому бы придраться.
Гринфельд живет здесь не один уже год и обид накопил – через край.
Когда приспичит и подопрет под самое горло, специально едет на рынок, где Додик, южный человек, и магазин у Додика – вина-водки, и раскидистое дерево во дворе: всё вокруг усыпано крышечками от бутылок.
Стоят под деревом наши люди, откупоривают, разливают на троих ко всеобщему обалдению непривычного к тому населения.
Хоть билетами торгуй на невиданное зрелище.
Русские пришли! Русские пришли!
Пришли и откупорили.
Ненавистник Гринфельд не пьет под деревом.
Это ему не нужно.
Ему бы испортить народу удовольствие: с этого он хмелеет.
Гринфельд прикладывает ухо к земле, слушает, говорит потом пакостно:
– Скачут. Конники-буденники. Скоро уже. Тут будут.
Но его никто не трогает.
Тронешь – а он рассыплется.
– Бердичевский, – закричал он и пошел навстречу. – Ваши-то опять обкакались! Что же вы, Бердичевский? Избранный народ, а выиграть в футбол не можете!
Бердичевский обошел его по газону и ушел в подъезд.
Капелька горечи на донышке, малая капелька, – сесть у окна и заесть немедленно сладостью увиденного заката.
Дымка туманная, мягкая, нежная, горы укутаны шалью невесомой, и розовое, трепетное, с невозможными оттенками до бледно-светлого, бледно-голубого. И одинокое облачко над горами, поперек, тушью, как последний штрих Создателя. А там уж темнее, гуще, багровее по кромке, и луч от фары автомобильной, на горной дороге, всплеснувшийся победно через темноту и расстояния...
Ночью, на том самом чердаке, он умирал понарошку в своих желаниях, смешной старик Бердичевский, а дети суетились возле его постели.
Подавали чай.
Щупали лоб.
Кормили лекарствами и подкладывали грелку.
А он лежал довольный, счастливый, в центре их внимания, первый раз в центре.
– Чего это вдруг? – спрашивал он со вздохом.
– А того это вдруг, – отвечали дети.
И умирать уже не хотелось, а хотелось – жить.
4
Первой уходила тетя Бася.
Белозубая, круглолицая, с пышным, волнующимся бюстом под расшитой украинской блузкой.
Это случалось всякое утро, в пять часов тридцать семь минут, и часы на подоконнике отзванивали свое.
В пять тридцать семь, без задержки.
Тетя Бася была молодая, звонкая, радостная, в порывистом нетерпении: хохотом наполняла дом.
Она очень любила играть в "гляделки", не моргая, глазами в глаза, душу высматривала до донышка.
Из-за нее стрелялись. Ссорились. Уходили от жен. Ей была посвящена книга стихов: 'Той, в чьих туманахъ заблудилась моя душа".
Два солдата-сифилитика изнасиловали тетю Басю в подъезде, на заплеванном полу, безжалостно и по-всякому, в незабываемом тысяча девятьсот восемнадцатом, и она умерла тут же – от отвращения к жизни.
В пять часов тридцать семь минут утра.
Старая хулиганка Фогель не помнила тетю Басю.
Про Басю рассказывала ей мама, просила поминать и дальше, когда ее, мамы, уже не будет на свете: Бася того стоила.
– В следующей жизни, – сказала Бася перед смертью, – я буду радугой.
– Почему радугой?
– Радугой – и всё. Радуга при любых сволочах – радуга.
И ушла.
В шесть часов семнадцать минут звонил будильник на полке.
В шесть часов семнадцать минут уходил двоюродный брат Зяма.
Этот был ученый. Мудрец-математик. Сообразительный скородум.
Времени было немного, чтобы помянуть Зяму, потому что в шесть двадцать одну подавали знак бронзовые часы-безделушка, и старая хулиганка Фогель торопилась вовсю, чтобы успеть к следующему поминанию.
Обернешься назад – одни пеньки.
Это он сказал однажды, ведущий теоретик Зяма:
– Мы тут, а наша земля там.
Больше ничего не добавил.
По тем временам это было смело. Глупо. Странно и непонятно.
Какая земля? Где? Для кого? Что ты мелешь?..
Он работал на космос, этот Зяма, был засекречен и обласкан, и заработал инсульт в молодые годы, от перенапряжения, на срочных ночных авралах, за которые хорошо платили.
Был он потом парализованный, жил как не жил, долежался до пролежней и сказал однажды с удивлением:
– За всю жизнь, – сказал, – не посадил ни одного дерева. Только бумаги перевел – без счета.
Старая хулиганка Фогель была тогда молодой и подолгу разглядывала одряхлевшего Зяму.
Старики ее интересовали.
Старики беспокоили.
В стариках она искала себя, будущую.
– Но я экономил, – сказал Зяма. – Я экономил бумагу. Писал на обороте черновиков. Одно дерево я наверняка сэкономил. Или два. Это всё равно: посадить новое дерево или сэкономить старое. Да, да, – настаивал без уверенности. – Всё равно.
Дождичек покапал напоследок на мертвое лицо.
Факелом взметнулась сирень у забора.
На мраморной глыбище по соседству выбито было понизу клеймо мастерской: "Кабановъ, на Мясницкой".
Соскоблили – не иначе – старую надпись, переделали в который уж раз под нового клиента.
На мраморе процарапали утешением: "Вечно не живут".
В шесть двадцать одну отстукивали молоточки по бронзовой наковаленке, и старая хулиганка Фогель начинала плакать.