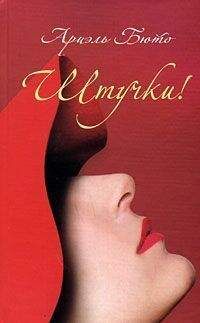Лоренс Даррел - Месье, или Князь Тьмы
Сами того не замечая, мы стали продвигаться быстрее, даже лошади учуяли наше нетерпение и ускорили шаг. А когда с трудом взобрались на очень уж огромный бархан, то были вознаграждены: мягкий немигающий свет виднелся там, впереди. Теплое розовое сияние растекалось от его источника во все стороны, суля нечто устойчивое и стабильное посреди безбрежных песков — и близость цели. Улыбаясь друг другу в темноте (это чувствовалось по голосам и шуткам), мы торопливо одолевали пески.
Макабру был всего лишь тенью, которой лишь на рассвете предстояло разделиться на предметы и плоскости; но в те минуты мы осознавали одно — он уже не пустыня. Словно бы паря на краю теплого света, он хранил свои красоты для восходящей луны. Однако стоило нам приблизиться, свет распался на множество отдельных огоньков; мы увидели нечто вроде лагеря, разбитого в песках — бивуака некой мощной армии. Все казалось неясным и ненадежным в темноте — расстояния, объемы, углы, предметы. Вблизи Макабру не очень отличался от других крупных арабских поселений, разве что был поярче освещен. Когда мы подъехали к нему почти вплотную, то разглядели изящный тюльпан минарета и блестевший, как зеркало, водоем, то ли озеро, то ли рукав реки, через которую нам пришлось недавно перебираться. Едва мы придержали лошадей возле ближайшего источника света — костра из соломы — как тотчас рядом возник всадник на огромной черной кобыле.
— Сенешаль, — сказал Пьер, до глубины души очарованный не только самим словом, но и средневековым обычаем так встречать гостей.
Я знал, что он думает о крестоносцах — о том, часто ли им доводилось испытывать на себе мусульманское гостеприимство. Высокий поджарый бородач с орлиным носом, спросив по-арабски, кто мы такие, перешел на чистейший французский язык, — как только мы назвали себя и из вежливости сняли легкие, но довольно громоздкие арабские бурнусы, которые душили нас в жару, но теперь нам не хотелось с ними расставаться, так как вечером сильно похолодало. Не теряя даром времени, посланец развернул свою пританцовывающую лошадь и пригласил нас следовать за ним в освещенный город. Мы уже знали, что нам предстояло увидеть, Аккад все рассказал заранее, и подробно.
Гробницы людей, признанных святыми при жизни или канонизированных после смерти и удостоенных ежегодных праздников, встречаются не только в городах или больших деревнях. Частенько захоронения находятся в безлюдных местах, но рядом обязательно бьет родник и растет пальма, так что дервиш, совершив ритуальное омовение, может помолиться и помедитировать в тени, а обыкновенный путешественник — утолить жажду и насладиться прохладой. Скромно, с усыпальницы и источника, начинался Макабру — однако это был настоящий оазис с довольно большим и кристально прозрачным озером, в котором днем и ночью отражались облака. Высокие заросли тростника окружали священный водоем.
Над могилой святого выросла небольшая квадратная часовня, увенчанная куполом с очень красивой резьбой. Снаружи расположился великолепный мраморный фонтан филигранной работы, сооруженный на деньги местного паши, позаботившегося и о том, чтобы три мрачных благочестивых дервиша постоянно творили тут религиозные обряды. Как же хорошо он был нам потом знаком, этот совершенно особый аромат — едва ощутимый запах пыли и солоноватой воды на промытых камнях; как досконально мы изучили необычные, приводящие в смятение храмы без алтаря, вообще без какой-либо особой святыни, если не считать священные хоругви с благословениями мусульманского Бога. И обязательно повсюду — коврики, кувшины с водой и расписные сундуки для пожертвований от заезжих путешественников. Раз в году оазис оживал, вспоминая своего святого. Вокруг пальмовой рощи, где привязывали верблюдов, раскидывался базар, и от него в разные стороны расходились так называемые улицы. Наскоро копали в песке необходимые стоки, кое-где опробованные загодя водой. Временная электрическая сеть с мириадами разноцветных лампочек опутывала улицы и закоулки, уставленные лотками с пестрыми навесами. Чего только здесь не было! С годами ярмарка (mulid) утратила свой сугубо религиозный смысл. Впервые оказавшись в Макабру, мы, естественно, не могли сходу все разглядеть, завороженные кипящей жизнью базара, где ни на минуту не прекращалась шумная торговля, и этой восхитительной иллюминацией: разноцветные гирлянды были протянуты к центральному храму, очевидно, чтобы подчеркнуть его особую значимость. Сквозь вопли на базаре и крики мулов и лошадей в рощах возле озера пробивался праздничный стук маленького барабана и писк флейт. Некоторые палатки были сооружены из досок или тонких прутьев, но чаще это были обыкновенные лотки с навесами из грязных и рваных тряпок. Пройдя через эту недолговечную деревню (которая ежегодно всего на три дня появлялась в пустыне), мы увидели полосатый шатер со столбами возле входа, привязали к ним лошадей. Выяснив, что Аккад еще не приехал, мы даже обрадовались, ибо можно было снова отправиться на базар, который был нам тогда в диковинку и произвел невероятное впечатление.
Он потрясал своим великолепием, но нас восхищали не только сами палатки, где были и засахаренные фрукты, и медная посуда, и верблюжья упряжь, и календари, и прочее, и прочее… но и то, что продуктовые ряды были устроены не хуже, чем на больших базарах Александрии — откуда, думаю, по воде или по суше были доставлены многие товары. В те годы холодильников еще не было — разве что примитивные громоздкие ящики со льдом, которые не так-то легко было перевозить. Поэтому все съестное тщательно укладывали в большие мешки со льдом, а везли их верблюды. Предприятие поистине под стать подвигу Геракла. И как только караван оказывался в Макабру, корзины с бутылками спешно опускали в колодец или несли в озеро — чтобы не нагревались. На базаре продавали мясо на любой вкус, фрукты и свежие, и сушеные, овощи, зелень, домашнюю птицу, дичь, рыбу самую разную, вкуснейший хлеб, молоко и свежие яйца. В округе почти ничего из этого никогда не водилось и не росло, то есть практически все товары наверняка привозили из Розетты,[48] Александрии, из деревень в Нижнем Египте. Мы молча бродили между рядами, в упоительном трансе от обилия красок, запахов, звуков. Чуть ли не на каждом шагу торговали приготовленной тут же едой; на дешевые украшения можно было выменять что угодно. Вскоре мы наткнулись на некое подобие песчаного ринга, на котором крестьяне фехтовали железными палками — в шутку, смеясь, изображали что-то вроде тренировочного боя с воображаемым противником, довольно неуклюже двигаясь под музыку, очень похожие на пляшущих медведей. Судя по количеству зрителей, эта забава пользовалось успехом. Музыку поставляли кавалеры не слишком благочестивых дам, которые по-своему праздновали день здешнего святого. Грубо размалеванные, с воткнутыми в волосы перьями и украшенные ожерельями из лука и чеснока, они глазели на поединки, сидя на лошадях. Хозяин труппы, клоун с набеленным лицом, на плече у которого вертелась непоседливая обезьянка в нарядной шляпке, сидел задом наперед на муле. Воплощение придворного шута эпохи Средневековья. Его двусмысленные остроты вызывали хохот толпы.
Мы так увлеклись великолепным спектаклем, что не сразу заметили Аккада, а он, улыбаясь, переходил вместе с нами с места на место; правда, на нем вместо европейской городской одежды была изрядно поношенная, штопаная абба[49] и мягкая феска. Он мог быть и таким, этот вызывающий всеобщее любопытство торговец-банкир, который чувствовал себя, как дома, в четырех столицах и свободно изъяснялся на четырех языках. Я не разделял беззаветного восхищения Пьера, но и мне самому Аккад казался на удивление самобытным и обаятельным человеком, в его весьма неординарном поведении и речах всегда читался намек на некую известную ему глубинную тайну. Казалось, что прежде чем заговорить, ему приходится выходить из транса или прерывать медитацию. Довольно часто его высказывания были отрывочными и бессвязными, а многое я совсем не понимал — или мне теперь так кажется? Его внешность тоже была не совсем обычной: иногда он производил впечатление человека массивного и тучного, а иногда выглядел, как худой аскет. Мне приходилось видеть, как он, со щетиной на подбородке и с неряшливо зачесанными волосами, ехал по городу в своих неизменных черных очках — ну просто вылитый толстый вялый паша, погрязший в богатстве, как турок. А потом в его городском доме, украшенном статуями и фонтанами, и внутренним двориком, который соединялся арками с тенистыми и тихими садами Музея, я видел другого Аккада, так сказать, его коктейльную версию. Элегантного господина, одетого лондонскими портными, с бутоньеркой и шелковым носовым платком, засунутым в рукав, словно платок факира, полный разных чудес. В доме он тоже был в очках, но его лицо как будто становилось уже, несколько похожим на козлиную морду, а волосы казались более тонкими и редкими. Конечно, случалось, что он отказывался от своих причуд и, беседуя, снимал очки — тогда все ваше внимание переключалось на его бездонные глаза, зеленые, как море, и внушавшие тревогу. Кстати, он немного косил, отчего смятение его собеседника усиливалось — неприятно, когда смотрят сквозь тебя или мимо тебя. Порфирородный Аккад!