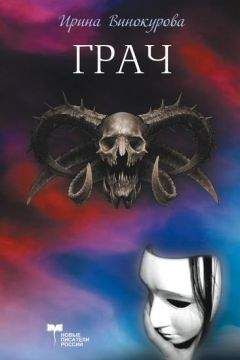Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 6 2007)
С правого придела храма проходит батюшка, раскачивая кадило, густой дым ладана и бряцанье, звон звеньев приближается, и прихожанки жмутся друг к другу, давая дорогу священнику в голубом облачении, — свечи на подсвечнике у иконы стоят плотно и неподвижно, склонили головы, словно под ветром.
Батюшка проходит, и раздается шелест, ряды раздвигаются, расправляются, и снова крестные знамения, поклоны...
Монахиня стоит не изменяя наклона головы, спокойного, прохладного…
А у белых ворот окликнули — Алексей!..
— Здравствуй!..
Он был человеком, которого я часто встречала случайно. Мы виделись почти бесперебойно раз года в полтора, хотя никогда не договаривались о встречах.
А как-то столкнулись на безвестной, забывшейся уже станции метро. Кажется, то была “Новокузнецкая”, но, может, и “Третьяковская”. А то и вовсе другой конец города. Я шла с кем-то. И он был не один. С девушкой, одетой в длинную юбку, кофту, с платком на голове, лица не помню, как не могу сказать, высока или низкого роста. Сказал, не глядя на меня: “Вот, выясняю отношения...” Я дернула плечом и пробормотала: “Ну что ж... Понятно”. Неясно, зачем ему понадобилось это говорить — при моем спутнике, при ней. Кажется, когда мы разминулись, так же быстро, как и встретились в толпе, я пояснила знакомому: “Послушник. Семинарист”. О нем всегда было приятно обмолвиться окружающим — ведь он необычен. Да, его можно назвать необычным. Самого по себе или по тому пути, который он избрал, — не столь уж и важно.
Еще раз мы встретились, я шла с третьим, пятым, он — тоже с кем-то, и опять не помню лиц. Люди вокруг, когда я встречала его, как-то рассыпались и блекли. Ни слов, ни имен. Слишком он был странен.
Всякий раз я словно впервые видела его и удивлялась величественной, не осознающей себя, ровной стати.
Новодевичий возвышался над нами.
— Ну, как твои дела, где, что?
— Да какие у меня могут быть дела…
Он глянул светло, ничего не ответил.
— Не знал, что ты ходишь в церковь.
— А я и не хожу. Здесь — случайно.
Мы постояли у метро. Расставаться не хотелось, но трудно было придумать причину, которая требовала бы задержки. Протянула визитку, где латиницей, помельче букв “International Freedom”, было выбито имя, и сказала:
— Как-нибудь!..
— Как-нибудь, — кивнул он.
Было понятно, что никогда.
Дома есть одна иконка. Бабушкина, а может, так и прабабушкина. Самодельная. Да, именно — не рукописная, но самодельная. Я нашла ее завернутую в тряпицу на печи. В красном углу уже висели богато убранные рушниками и дешевенькими цветами из фольги новые большие иконы. Они как будто аквариумы, там так много всего внутри, чуть ли не каменья самоцветные блестят.
А вот эту клеил, наверное, дед Иван. Репродукция иконы Божией Матери, именуемой “Утоли моя печали”. Наклеена аккуратно, без малейшего пузырька воздуха, на деревянную основу. Поистерлась уже местами. А рамочка некогда была выкрашена золотистой краской. Теперь краски не осталось. Веревка, не веревка даже, а вервие, — вероятно, пеньковая — петелька на проржавевшем гвозде.
Я увезла икону из места всегдашнего обитания. И как знать, может, тем самым как бы и разрешила изменение дедова дома. В который до сих пор иной раз прихожу — во сне. Обычно там мне существенно меньше лет.
Стол стоял в тенистом уголке двора. Почти в розовом кусте — большом, изросшемся. Раскидистая груша кидала на клетчатую клеенку пятнистую сетку тени. Нас, внуков, было четверо. Дед был жив; жива была и прабабка.
Выносили чугунок с вареной молодой картошкой, еще один, побольше, — с борщом. Который поменьше, был с кашей. Четвертый манил корочкой, хрустящей пенкой: топленое молоко.
Салат из свежих огурцов, помидоров и лука в огромной эмалированной миске, почти в тазу, ставился посередине стола. Вилки и ложки — в кринке. Бабушка и дед, сколько помню, всегда ели ложками.
Семья садилась за стол. Запах от еды шел такой, что у нас кружились головы и подводило животы. Мы бросались на еду, обжигаясь и давясь.
Летний воздух. Молодые лунные дольки полупрозрачного чеснока.
Запиваешь кружкой холодной, аж зубы ломит, воды.
Удивительно, что все это однажды закончилось. И ведь когда-то же был последний такой обед.
Разохотившись воспоминаниями, заскочила в случайную, произвольную забегаловку. Похоже на вокзальную или провинциальную столовую. В Москве еще сохранились такие. Пластиковые цветочки в керамических горшках. Две женщины в толстых рейтузах едят сосиски с горошком за столиком у двери. Решаю заглотить кофе с мороза и смыться отсюда. Мужик с окладистой бородой пьет бурый чай из стакана. К нему подсаживается другой, стриженый:
— Вы батюшка?
— Нет…
— Тогда — ваххабит?
Борода в изумлении топорщится на непрошеного собеседника.
Смеюсь в бутерброд, закрываясь салфеткой. Ничего себе крайности. Гляжу на граненые стаканы, плохо вымытые — чайные круги на стенках, словно древесные кольца, свидетельствуют о древности...
А ведь граненый стакан, светлая ему память, — вещь совершенная по форме и существу. Где только он не пребывал, ключевая деталь мира, что замыкает и гармонизирует пространство.
На столе, застеленном белой скатертью, в ранний весенний день нетрудно представить граненый стакан, в котором обрастают серебристыми пузыриками стебли мелких полевых цветков: клевер, одуванчик, василек, ромашка. На шатком столике плацкартного вагона граненый стакан постукивает о железный подстаканник с изображением глухаря.
Из граненого стакана, со стуком отставляя его на порезанную клеенку в мелкую голубую клетку, глотал мутноватый самогон дед Иван, Царствие ему Небесное, на свадьбе младшей дочери.
— Варька! За кого йдешь! — разорялся дед, а бабушка уводила его, беспутного, на веранду спать.
А граненый стакан и опустелый источал тугой запах сливовой сивухи и резко шибал спиртом, если опасливо приблизишь нос.
Граненый стакан споласкивался бабушкой и составлялся с прочей кухонной утварью — тарелки со щербинками, на одной надпись “Общепит”, на прочих цветы-узоры, чашки в крупный красный горох и с золотой каймой по внутреннему краю, синие рюмашечки, приземистые, мелкие, тяжелого дешевого стекла, — на столе в той же веранде, где посапывал дед.
Граненый стакан полнился рыжим махровым абрикосовым соком или помидорным, который на языке оставляет впечатление, словно он крапчатый, а на деле — посмотришь — одного равномерного цвета. А то еще наливался стакан прозрачным, желтоватым березовым соком, консервированным, из трехлитровой банки с изображением трех деревьев, в столовой Дударкова, куда заходишь с пыльного лета освежиться, накрутившись до боли в ногах велосипедных педалей.
Преломление ложки или даже вилки в граненом стакане с водой, доложу я вам, весьма способствует изучению особенностей оптического восприятия мира.
Граненый стакан полнился ароматной газировкой, которой чихал и фыркал автомат на любой жаркой улице любого советского города.
Так вот, у меня дома больше нет ни одного граненого стакана. А не так давно, едучи в плацкарте, не увидела ни единого в купе проводницы, которая одной рукой отслаивала от стопки пластиковый стаканчик, другой расчехляла чайный пакетик “Майский”, его я должна была затем тащить, намокший и обмякший, словно дохлую мышь, за хвост.
Я ходила несколько дней по улицам в совершеннейшем снегу и большом удивлении, не видя ни намека на граненые стаканы. Как и на многое из того, среди чего привыкла я сызмальства обитать. Билет в будущее безвозвратно прокомпостирован на входе.
И вот я вижу его. Родной, знакомый до боли. Стакан. Здесь, случайно. Но теперь у меня нет иллюзий на его счет: это временный посланец отошедших в минувшее дней. Ведь некогда, говорят, его производили из расчета две штуки на человека в год. Вне подобного плана бытие граненого стакана не имеет смысла и не помнит той красоты.
Но все же мне кажется, русский человек вечен. Триста лет назад он точно так же сидел за столом златоглавой, неприютной зимней Москвы, которая, что ни делай, давно изневерилась в слезах.
Мужики-“ваххабиты” уже обнимали друг друга и вели им понятный, органичный, плавный, исполненный огромного, почти вселенского смысла разговор, состоящий почти из одних междометий.