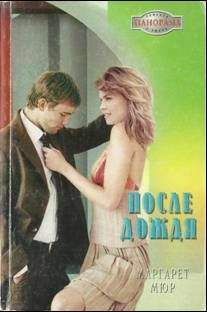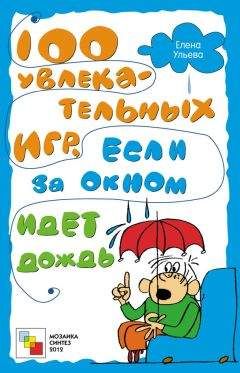Владимир Кантор - Крокодил
И озлобился. Вспомнил старую неприязнь к Аниной родне: «Что меня сюда занесло?! Мещанское болото! Здесь сразу как-то тупеешь. Смерть — великое таинство, а они о чем говорят? О чем они вообще могут говорить?.. И Гриша, Гриша, мыслитель, интеллигент во втором поколении, как сказал бы прежний зам.
Главного!.. И в самом деле, ведь Гришин отец-профессор, а его куда занесло?! Как он может с этими мещанами общаться? Как ему времени не жалко? А я? Я чего поехал? — И с неожиданной резкостью самобичевания, которое сегодня одолевало Левину душу, сказал себе:
— Погреться у чужой беды — вот чего. Дом чужой горит, а я сбоку притулился, греюсь. Чтоб одному не оставаться. Так не лезь, не злись. В конце концов, сам-то ты что из себя представляешь? Неужели Главный лучше? Или Чухлов? А ведь общаешься с ними. Или новые мои соседи — Иван да Марья? Они, что ль, интеллектуалы? А вчера — с кем пил и что вытворял?! Ф-фу! Расслабься. Всюду жизнь. Будь проще».
Сима плакала, резала снедь и говорила:
— Не знаю, как все произошло. Не могу представить, что это произошло. Еще позавчера он пришел днем, веселый такой, ласковый, пообедал у нас. И треску я ему с собой завернула. Он же был такой домовитый, запасливый. А вечером уже звонит Людмила, что он утонул, утопился… — Она отложила в сторону нож, сняла очки и закрыла глаза правой рукой, левая, вздрагивая, осталась лежать на столе.
Все замолчали, не зная, как помочь, только Аня встала, склонилась к ней, обняла за плечи, прижавшись к ее широкой спине. Сима вытерла слезы, надела очки и продолжила работу, пробормотав:
— Ладно, Ань, ты меня прости, никак не могу сдержаться.
Одна из сновавших туда-сюда пожилых женщин сказала:
— Ты бы шла, Сима, переоделась, прибрала себя. Сейчас Андрейку привезут, ты же должна с ним ехать, А мы здесь с Аней уж как-нибудь все подготовим. Ты хоть этим себя не беспокой.
Сима дала увести себя за руки, а ее место сразу заняла подошедшая женщина. Никого-то здесь Лева не знал, а Аня с Гришей были заняты исполнением родственных обязанностей. Лева вернулся в большую комнату. Из дальней комнаты, ковыляя, показалась старушка в платке, уже кривобокая от старости, согнутая, опирающаяся на палку Слезящимися глазами она никого не видела. Распухшие ноги были в тапочках с разрезанными задниками.
— Такой уж он ласковый был, почтительный, Андрейка-то, — говорила она в воздух. — Почти как Борюшка Анин. Как же это он над собой такое сделал?! Грех какой! А все потому, что с первой женой развелся. Нехорошо это было. Как уж взял жену, так и держись.
В противоположном углу навзрыд заревела оставленная жена. К старушке подошла Сима:
— Мама, иди к себе в комнату. Когда Андрюшу привезут, я тебя позову, — и она почти силком потащила мать в комнату.
Лева увидел рядом с собой Гришу.
— А Анина мама разве с Симой живет? Я думал — отдельно.
— Они как раз перед смертью Антон Гаврилыча съехались, чтоб отдельную квартиру получить. Тут тоже свои страсти были, — ответил Гриша и опять куда-то исчез.
«Как же так получилось? — думал Лева. — Жил парень нормально. Школа, армия, после армии женитьба на однокласснице, которая дождалась, потом институт заочный, работа по специальности, так бы и жить ему с этой одноклассницей, блондиночкой пухленькой. Задумал вдруг все перестроить, перестроил. Новая жена, новые дети — и на тебе. Нарушил узор в своем калейдоскопе. Интересно, что же за бабу он нашел, что так резко его узор переменила? А это каждый раз чревато неожиданностями, всякий переход в другую жизнь. А в этой другой жизни — шутки, пьянка, гулянка, карты, веселье до утра: иллюзия свободы. Знакомо все это, ох, знакомо. И всю эту замечательную компанию притащила его жена. Конечно, за это он в ней еще больше души не чаял. Не то что скучная и пресная Людмила-первая! Людмила-вторая оказалась компанейской, огневой, душой общества, но, как теперь выясняется, душой дурного общества… А если и со мной тоже самое происходит, — холодея, думал он. — Нет, — думал он, — я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, деньги не проигрываю, да их у меня и нет, живу безбытно. Не мещанин я, вот что главное! На чем меня поймать злой силе?..»
Лева вышел на лестничную площадку покурить, чтоб хоть как-то занять себя и не скитаться неприкаянно. Дверь была не заперта, и народ свободно циркулировал с лестницы в квартиру и из квартиры на лестницу. Закурив, Лева присоединился к одной из мужских группок, став рядом. Там обсуждалось сплетение свадьбы и поминок в одном подъезде. Высокий, широкоплечий, арийского типа блондин, с открытым, породистым лицом, белозубой улыбкой, носивший черный свой костюм с элегантной небрежностью, паясничал:
— Если, конечно, гроб наверх понесут, черт знает что выйти может. Как в анекдоте. Представьте, други: идет свадьба. Все веселятся, кричат «горько», желают молодым счастья и долгих лет жизни. Ну, как положено. Тут звонок в дверь. Думают, что это либо опоздавшие, либо поздравительная телеграмма, — посылают открывать жениха с невестой. Те открывают. Вваливаются спиной в дверь два амбала, руки чем-то заняты, за ними еще два. И вносят… гроб. Невеста в обмороке. А амбалы хрипят: «Извините. Мы на минутку. Нам бы только развернуться. Уж больно у вас лестницы узкие».
Все было засмеялись, но тут же смолкли, уставившись куда-то. Лева обернулся и увидел, что по лестнице поднимается худенькая, бледная женщина в зеленом платье и почему-то синих перчатках. Рядом с ней седоватый мужчина, стриженный ежиком, невысокий, сухощавый, ладный, с военной выправкой. Ни на кого не глядя, они вошли в квартиру.
— Привезли, — выдохнул кто-то сзади. Лева загасил о каблук сигарету и прошел следом. Сухощавый мужчина что-то отвечал на вопросы, кивал головой, пожимал руки. Увидев Гришу, двинулся к нему и, отведя ладонь, затем хлопком поздоровался с ним. Они поцеловались.
— Здравствуй, Гришенька, спасибо, что пришел. Аня-то звонила, что будет. А Борис приедет?
— Скоро должен быть.
— А Андрейка наш уже никогда… — он махнул рукой, отвернулся и неожиданно заплакал. Но сдержался, вытер слезы. — Извини. Это твой товарищ? — спросил он о подошедшем Леве. — Вы нас извините, если что не так. Спасибо, что пришли. Посидите с нами. Андрейка любил гостей, — он говорил почти как автомат, но видно было, что только потому и держался.
Вышла Сима, под руку ее поддерживала Аня, следом две пожилых женщины вели Настасью Егоровну, старуху в тапках с разрезанными задниками, бабушку Андрея, мать сестер. Все принялись спускаться вниз по лестнице друг за другом, цепочкой. Перед подъездом на каком-то возвышении стоял открытый гроб. Около него дежурили старший брат покойного и несколько парней с хмурыми лицами. Люди подходили и опускали в гроб цветы. Неподалеку ждали два похоронных автобуса, в них сидели равнодушно-терпеливые шоферы.
К гробу подошел отец, посмотрел на сына, поцеловал его, подняв голову, обвел глазами собравшихся, на невестку в зеленом платье (на ней кроме синих перчаток был еще теперь черный платок) ни он, ни старший его сын старались не глядеть. Зато пухлую блондинку он мимоходом погладил по голове, а мать покойного прижала ее голову к своему плечу. Уткнувшись в плечо бывшей свекрови, первая жена опять начала плакать. Вторая глядела немного затравленно, но твердо, и твердо встала у изголовья гроба.
— Кто остается и на кладбище не едет и кто хочет, подходите и прощайтесь, — сказал отец, еще раз поцеловал сына и отошел.
Первыми к гробу двинулись родственники. Вид Андрея был страшен. Лицо его казалось неестественно вытянутым и плоским, он был до подбородка укрыт белым покрывалом, так, чтоб не видно было горла. И все равно охватывала жуть при взгляде на него. Вся левая сторона лица была черно-синяя, словно гигантский синяк с уже почерневшим кровоподтеком. И хотя лицо было восковым, земляным, как у всякого умершего человека, из которого улетела душа, на лице отпечатлелось недоумение и страдание. К изголовью подошла Сима, склонилась, гладила лицо сына, целовала, что-то шептала, потом шепот перешел в громкие причитания:
— Сыночек, солнышко мое, мальчик мой золотой! Маленький мой, деточка моя! Не уберегла тебя твоя мама! Не устерегла, на ком женился, с кем связался!.. Все-то ты от матери скрывал и таился! Сама, сама должна была догадаться, сердцем почуять!.. Золото мое ненаглядное! Как я кудри твои расчесывала, на руках носила!
Ее увели, а ее место заняла деревенская тетка, которая встречала Аню у подъезда, и заголосила, к удивлению Левы, что-то старинное, с плачем и придыханиями:
И как от батюшки было от умного.
Да и от матушки да от разумное,
Зародилось чадушко безумное,
Безумное чадо неразумное,
И унимает тут чадушко родна матушка:
— И не ходи-тко, чадо, на царев кабак,
и не пей-ко-сь, чадо, да зелена вина,
и не имей союз со голями кабацкими,
и не знайся ты, чадо, со жонками со блядскими,
и что ли со тема со девками со курвами. —
И не послушал тут чадо родной матушки…
Ай тут ведь к добру молодцу да Горе привязалося…
Кто-то тронул Леву за плечо. Он отвлекся и обернулся. Сзади стоял полный мужчина с портфелем, беспокойным широким лицом, слегка раскосыми глазами в детских очках, небольшими рябинками по красноватому лицу (словно Лева увидел себя в зеркало) и шептал с прямотой труса и эгоиста, беспокоящегося только о себе: