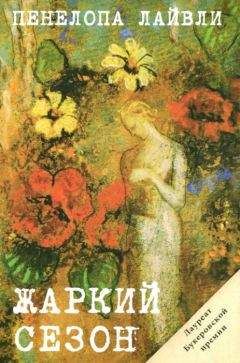Имре Кертес - Самоликвидация
Долгая тишина.
Юдит встает и молча принимается собирать пепельницы, бокалы.)
Адам. Историю эту можно рассказать и по-другому, Юдит.
Юдит (останавливаясь). Как?
Адам. Так, как она произошла.
Юдит. Ты думаешь, я лгу?
Адам. Уверен, что нет. Я внимательно тебя слушал. И помню практически каждое твое слово. Юдит, ты рассказала мне историю любви, подсвеченную Освенцимом.
Юдит (ошеломленно). «Подсвеченную» Освенцимом?!. Как это понимать? Что ты знаешь об Освенциме?
Адам. Все, что можно о нем прочитать. И все же ничего не знаю. Как и ты не можешь знать о нем ничего.
Юдит. Не равняй себя со мной. Я — еврейка.
Адам. Это еще ничего не значит. Все мы — евреи.
Юдит. Ты меня поражаешь, Адам. Ты остроумен, как философ. Никогда б не подумала, что ты… Что ты, например, читаешь об Освенциме.
Адам. Читаю. Беспрерывно, с тех пор, как узнал тебя. Книгу за книгой. У меня в офисе — целая библиотека литературы об Освенциме. Неисчерпаемая тема.
Юдит. Ты никогда мне об этом не говорил.
Адам. Не говорил. Потому что видел: ты куда-то уходишь. Я только не знал, что ты уходишь от своей любви. Ты жила со мной, а в снах своих изменяла мне с ним.
Юдит. Значит, вот в чем дело. Ты ревнуешь меня к покойнику.
Адам. Может быть. Но по-другому я не смог бы тебя понять. Не смог бы понять, что вами двигало. Что заставляло его написать свой роман покаяния, а затем, вместе с собой, приговорить его к смерти. И что заставляло тебя привести приговор в исполнение и тем приобщиться к какому-то мистическому единству, если я верно воспринял твои слова.
Юдит. А теперь ты понял то, чего не мог понять раньше?
Адам. Я по крайней мере пятнадцать книг прочел о маниакальной депрессии и паранойе.
(Долгая тишина.)
Освенцим никому не дано аннулировать, Юдит. Никому. И никакие полномочия тут не помогут.
Юдит (в голосе ее все больше отчаяния). Я была там. Я видела. Освенцима не существует.
Адам (подходит к Юдит, крепко берет ее за плечи). У меня двое детей. Они — наполовину евреи. Они пока ничего не знают. Спят. Кто расскажет им об Освенциме? Кто из нас двоих скажет им, что они евреи?
(Долгая тишина. Адам крепко держит Юдит за плечи.)
Юдит (тихо, почти умоляюще). А если мы им не скажем?..
ЗАНАВЕСОднако, разбирая рукописные записи, Кешерю нашел и другой, куда более радикальный финал; правда, оформлен он был свободным стихом, что говорило о более раннем его происхождении. То есть это скорее был прототип, чем действительная альтернатива окончательному варианту.
Адам
Он убил в тебе твое дитя
Ты убила его книгу
Сожгла ее как в печи Освенцима
Пожалуй это достойная месть
подсознательная как говорят
Не стану допытываться кто из вас
убийца
но страшно туда смотреть
я лишь теперь начинаю видеть Видеть
и понимать
понимаю страсть
понимаю страх
понимаю стремление спрятаться
понимаю что значит
быть евреем
Понимаю приговор
понимаю понимаю
Юдит
Ты был ни в чем не повинным
и сильным
Теперь всему конец
Я знала все так будет
что он придет следом за мной
втопчет в грязь
перемелет в руках
Я знала спасенья нет
Адам
У меня двое детей
Двое полуевреев
Кто расскажет им об Освенциме
Кто скажет им, что они евреи
Юдит
Все ушло чем я восхищалась в тебе
Ты стал слабым истеричным трусливым
и остроумным
Адам
Путь они узнают это не от еврея
Я сам им расскажу
Чтобы они учились не страху
Юдит
Но тебя ведь уже одолевает страх
Как хорошо мне известно это Адам
Как я этого не хотела
В этом вся моя жизнь с Б.
Иногда он срывался терял самообладание
Стыдно жить кричал он хватаясь
за голову
Стыдно жить Стыдно жить
Люби меня умоляла я его
Умоляла возьми себя в руки
Стыдно жить Стыдно жить
Люби меня умоляла я…
(Внезапно смолкает. Недолгая тишина.)
Адам
То есть… любить?
Юдит
Это наш единственный шанс.
Адам
Любить! (Внезапно принимается хохотать.)
Юдит
Любить! (Истерический смех заражает и ее.)
(Адам хватает со стола какой-то легкий предмет — скажем, пачку сигарет — и бросает его в Юдит. Юдит тоже хватает что-то — скажем, подушку со стула — и целится ею в Адама.
Между ними разыгрывается нечто вроде дуэли: это игра, но в ней есть что-то жестокое, что-то опасное. Летят предметы, подхваченные со стола, со стульев, и вместе с ними перелетает от Юдит к Адаму, от Адама к Юдит слово, которое они выкрикивают с разной интонацией, с разным эмоциональным наполнением.)
Оба
Любить! Любить! Любить… Любить! (Летают в воздухе слова, летают в воздухе предметы.)
ЗАНАВЕСКешерю уронил с переносицы очки для чтения, висящие на цепочке, и устремил неподвижный взгляд на плавающие в воздухе, в лучах льющегося в окно предвечернего солнца, пылинки, похожие на каких-то отвратительных микробов, которые устроили в комнате свой торжествующий хоровод. Как каждый раз, когда он брал в руки пьесу, его и сейчас охватило неприятное чувство, будто его обманули и ограбили. Была среди рукописных заметок ремарка, своего рода напоминание, которое авторы часто записывают для себя — на бумаге или на магнитной ленте, — чтобы в творческом порыве не забыть о том, что они, собственно, пишут. Ремарку эту Кешерю сейчас не стал выводить на экран: он читал ее столько раз, что давно выучил наизусть. «В основе этой пьесы, — говорилось в ремарке, — лежит роман. Таким образом, реальностью произведения является другое произведение. К тому же это другое произведение — роман — в полном объеме нам не известно. Не известно в такой же степени, как не известен и не понятен Сотворенный мир: то есть оно для нас столь же смутно, сколь смутен для нас этот мир, который мы называем и другим словом — „реальность“. Он, этот мир, в такой же степени фрагментарен, но в такой же степени и познаваем: ведь живем мы в соответствии с логикой его, данного нам мира».
Вот только реальность, данная Кешерю, ввиду произвола данного сюжета просто исчезла из поля зрения Кешерю, и теперь он смотрел неподвижным взглядом туда, где она должна была быть, смотрел так же, как смотрел на хаотический танец пылинок; танец этот был словно некая надчувственная речь знаков: завораживающим и непонятным. Как каждый раз, когда Кешерю подходил к финалу пьесы, он и сейчас задал себе гамлетовский вопрос, который для него звучал не как «быть или не быть», а — «есмь я или не есмь?». И немудрено: ведь его мир был мир рукописей, жизнь его всегда протекала между рукописей, вращалась среди рукописей; можно сказать, рукописи со всех сторон окаймляли его жизненный путь, — так что если роковую развязку своей судьбы он тоже в конце концов обнаружит в рукописи — рукописи, которая была сожжена, — это не будет напрочь лишено логики.
Кешерю засмеялся вслух; отрывистый этот звук и сейчас прозвучал не столько как смех, сколько как сухое хрюканье. «Finita la commedia», — подумал он затем, сам, пожалуй, не зная, имеет он в виду пьесу или нечто иное, возможно, более широкое и объемное: скажем, жизнь, а то и реальность, то есть — так называемую реальность. Пожалуй, не стоило бы ему читать эту пьесу. Правда стороны, время от времени он ее все-таки перечитывал. Почему? Может быть, потому, что она каким-то образом напоминала ему о лучших временах… По крайней мере, сейчас ему казалось, что у него были лучшие времени. Несомненно, когда-то давно у Кешерю были убеждения; более того, можно сказать, что именно убеждения направляли его жизнь. Поскольку в данный момент он как раз стоял у окна и смотрел на бомжей, ему пришло в голову, что когда-то давно он и на бомжей смотрел по-другому. В интеллектуальном своем высокомерии Кешерю когда-то давно возомнил, что у него есть моральное право жалеть этих людей; в результате он воздвиг между бомжами и собой массивную, липкую стену сострадания — исключительно ради того, чтобы кичиться собственной социальной чуткостью. Он даже принимал участие в разного рода движениях, которые использовали бомжей для того, чтобы представить существование их как факт скандальный, ставящий под сомнение легитимность тиранической власти, опиравшейся на лживый тезис социальной справедливости.