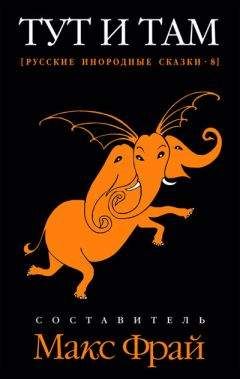Улья Нова - Лазалки
Чтобы поскорее попасть на станцию, где поезда и автобусы, нужно быстро зашнуровать ботинки и, не засматриваясь по сторонам, шагать по зигзагу улочек. Мимо двухэтажных домиков в потресканной штукатурке цвета ирисок. Не заглядывая в низкие, уходящие под землю подъезды, из распахнутых дверей которых вырываются запахи солянки, плесени и земли. Давай быстрей! По тихим пустынным дворам, в глубине которых всхлипывает-посмеивается аккордеон и скрипучим хором поют старухи. Шарики искать некогда, заглядывать в лужи – тоже. Не успеем, поезд уже через пятнадцать минут. Когда спешишь, городок поворачивается незнакомым боком, без предупреждения тут и там возникают незнакомые улицы и лица, а волосы треплет беспечный, подгоняющий ветер. С каждым шагом в горле заостряется предчувствие нетерпеливого выдоха поезда, его рывка от платформы, с ладошкой, машущей за мутным, слюдяным стеклом. Мама после выходных уезжает в Москву. Шевелись! Мы шагаем, сцепив пальцы в нерушимый замок. Бабушка с дедом бредут впереди, изредка оборачиваясь, вскидывая руки с часами, подгоняя нас. Мама закуривает и говорит: «Смотри на деревья». Потому что сигарета – плохая привычка, помогающая взрослым казаться спокойными. Ее темно-фиолетовые джинсы клеш вжикают от быстрой ходьбы. Свинг-Свинг. Новая белая ветровка надувается на спине парусом при порывах сквозняка. Мохеровый полосатый джемпер пропитан терпкими, горьковатыми духами, и когда мама обходит лужи и переносит через них меня, от ее резких движений аромат возникает отчетливее и вторгается в город волнами. Этот запах еще несколько дней будет вырываться из переулков, окрашивая ветер в цвета разрастающихся в горле голубей, фиалковых сумерек и опустевших перронов. Живей! На плече у мамы большая таинственная сумка, набитая скомканными бумажками, пропитанная пудрой и сигаретным дымом. Там, внутри, – растрепанная записная книжка и необъятная растерзанная косметичка, в которые заглядывать нельзя. И обычно, когда мама начинает собираться, затихает возле зеркала в коридоре, чтобы нарисовать прозрачной кисточкой ресницы, вымазывая темно-синюю тушь из коробочки, можно поиграть в разведчика, украдкой заглянуть в расстегнутую сумку, приподнять краешек записной книжки, обнаружив выведенные аккуратным округлым почерком имена и номера телефонов.
Из знакомого подъезда прачечной вырывается скрипучий запах крахмала, розоватый кружевной аромат цветочной отдушки для белья и горький, чернильный запашок реагентов – из фотоателье. Сквозь листву и просвет между домами смутно угадываются желтые автобусы, что стоят рядком на площади. С каждым шагом оттуда все отчетливее доносится торопливое, задыхающееся тадых-дыдыханье поездов. Уловив отдаляющийся гудок электровоза, мама снисходительно поглядывает на балконы, заваленные досками, коробками, лыжами и тряпьем. Ветровка шуршит и присвистывает. Взык-Взык. С каждым шагом мама ускользает из городка, забывает узенькие улочки и низенькие дома, оставшиеся у нас за спиной. Она роется в сумке, вылавливает из запретной глубины, из вороха таинственных бумажек и свертков огромные очки с голубыми стеклами. Надевает их, расправляет плечи, прячет пальцы в тугие, натянутые на бедрах карманы джинсов. И превращается в стрекозу с мягкими белыми волосами и огромными синими глазами. Превращается в стрекозу, нечаянно занесенную в маленький, тесный городок, окутанный запахами сырости и мокрой шерсти. Она уже где-то там и потом. Ветер, угадав настроение, подгоняет в спину, он готов подхватить и понести маму-стрекозу в город надежд, широких проспектов и шестнадцатиэтажных башен. Скорей! Из тесных дворов, где на перекладинах лазалок сушатся вязанные из байковых рубашек и треников половики, а на бельевых веревках, что натянуты между двух рябин, колышутся на ветру штопаные рейтузы, простыни с размытыми цветочками и пододеяльники с заплатками. Осталось семь минут. После дождя слишком тихо, асфальт черный, на мокрых скамейках никого нет. Вишни перешептываются у подъездов. Дворовые кошки умываются в квадратных подвальных оконцах. Тишина заставляет прибавить шаг, высвобождаясь из медлительного, ленивого времени, из уюта тесных перетопленных квартирок с низкими потолками и фанерными стенами, сквозь которые доносятся слова, поблескивающие позолоченными коронками, меченные большими черными родинками, пропитанные папиросами, укутанные в байку и тельняшки. Они преследуют маму, вырываясь из форточек, из приоткрытых дверей подъездов, из «Ремонта обуви» и газетного ларька: надломленные слова, обстриженные, как ногти, – тупыми портняжными ножницами. И мы почти бежим. Мама морщится, ломает вторую спичку, ветер треплет пламя и задувает третью. Она не говорит, а тихо цедит сквозь зубы, присев передо мной на корточки, приподняв очки на лоб, глубоко заглядывая в глаза. Она не говорит, а, обдав лицо бархатно-сиреневым, горьковатым дымом, вырезает надпись на скамейке ножом. Надпись, которая будет проступать сквозь новые и новые слои краски: «Все, кто ставит неправильно ударение, легкомысленно глотает буквы, выплевывает слоги, будто шелуху семечек, никогда не будут счастливыми». – «Почему это?» – «Потому что слова мстят. Они управляют людьми. Те, кто перевирает окончания, сами того не ведая, портят свою жизнь». – «Как это?» – «А вот так. Каждый день, выкрикивая мятые комки и клочки слов, ты погружаешься глубже в трясину, из которой не выбраться. Никогда, понимаешь? Это страшно. И однажды все неправильные, укороченные слова обернутся против тебя. Потому что, – шепчет мама, – то, как ты говоришь, напрямую связано с тем, как ты будешь жить. Вот твоя бабушка, – почти зловеще прибавляет она, указывая сузившимися глазами и потухшей сигаретой на бредущую далеко впереди бабушку, – твоя бабушка никогда не следила за словами. Они с дедом говорили как попало. И у них все так в жизни, тяп-ляп, понимаешь? Поэтому, – громко и настоятельно добавляет мама, – нельзя коверкать слова. Однажды они отомстят. И ты будешь недоумевать: как же так?»
Далеко впереди, под низким сизым небом, между ясенями и кирпичными стенами домов, в слабых лучах бледного, больничного солнца, вырвавшегося из трещины в туче, бабушка – кругленькая, невысокая, в выходном сиреневом платье с оборкой, в белых, стоптанных босоножках, идет под руку с дедом. Они, как всегда, движутся в ногу, плавно и неторопливо, будто в начале танца. Дед – в старенькой серой шляпе и коричневом плаще, ковыляет, расправив плечи, чуть склонив голову, чтобы бабушке было удобнее объяснять ему на ухо, решительно и четко, как заявление или доклад. Дед кивает и тихонько шепчет ей в ответ: «Есть, товарищ начальник! Будет сделано. Наладим». А мама утверждает, начиная трястись, не в силах уместить эту горькую тайну внутри, что в их жизни все сложилось неправильно и не так. «Потому что все эти выкрики „Вперед! В атаку!“, сверкающие сабли, которыми крутят над головами, развевающиеся вороными крыльями бурки всадников кончаются плохо», – бормочет мама. «Неправда». – «Послушай! Они обрываются стремительно и мгновенно. Рядом с гнедой лошадью, у которой белые гольфы на тонких ногах, рядом с лошадью, что несется во весь опор навстречу реву танков, стрекоту пулеметов и свисту пуль, оглушительно, сотрясая небо и землю, раскалывая все вокруг на сотню крошечных стекол, разрывается снаряд. Дым и скачущие по полю всадники валятся набок. Некоторые из них уносятся дальше, крики „Вперед! В атаку!“ заглушают гремящие тут и там взрывы. Рядом, на полном скаку валится, крутясь и подрагивая, еще одна, вороная лошадь. Огромные, похожие на чудовищ, покрытые испариной крупы перескакивают через препятствие – захлебнувшуюся кровавой пеной, отдавившую левую ногу всадника, вороную тушу, которая тяжелеет, наливается весом, врастает в землю. Все вокруг наполняется звоном. Потом громко, гулко пульсирует. Неожиданно крики, гул, стрекот стихают. Вой, лязг, цоканье, грохот забиваются серой ватой, заслоняется тишиной. Все смолкает. И гаснет». – «Я знаю, так бывает, когда на крыше кто-то ремонтирует антенну и из-за этого на экране возникает рябь, да?» – «Нет, не так».
Обо всем, что происходит дальше, мама не догадывается. Всадники и пехота рвутся вперед, только вперед, одним решительным и яростным рывком. Оставляя позади, в поле под Варшавой, за несколько месяцев до Победы, туши лошадей, захлебнувшиеся кровавой слюной, и оглушенных, истерзанных всадников. Они медленно теряют силы, и тогда, шурша плащ-палаткой, к ним приближается продавец снов в каске, брюках галифе и высоких кирзовых сапогах. Он появляется из дальнего лесочка, пригибаясь под пулями, быстро, зигзагами бежит по полю. Он вкладывает в руку раненого всадника кулек, серую оберточную бумагу, в которой завешены сны на сегодня. Лицо продавца серое, с черными пятнами гари и дыма. Он что-то говорит, вкладывает в слабеющую руку кулек, опять говорит и потом, пригибаясь, перебегает дальше. Там, в леске, в маленькой палатке сны завешиваются в спешке, среди сосен и берез, над которыми низко проносятся вражеские истребители, а совсем рядом, в двух шагах, выкорчевывая деревья, разрываются снаряды. Снов не хватает, поэтому к ним подмешивают золу, копоть и дым. А маленьких гирек, как всегда, нет. В палатке тесно, холодно и накурено. Замерзшие руки продавцов трясутся, они подсыпают сны как попало, на глаз. Получив свой паек, всадники начинают туманиться, выпускают еще сжимаемую в руке рукоятку сабли, роняют уздечку. Их головы падают на землю, щеки не чувствуют песка и стеблей. И раненые всадники, с перебитыми спинами, с красными ниточками, тянущимися от их висков к воротам гимнастерок, начинают засыпать. У них перед глазами проносится дым, копоть, гарь с редкими цветными вкраплениями. Знакомая деревенская улочка. Дым. Поворот, ведущий под гору, к речке. Гул. Дым. Гарь. Переулок, на углу которого ветер треплет подол платья, перепоясанного тоненьким коричневым ремешком.