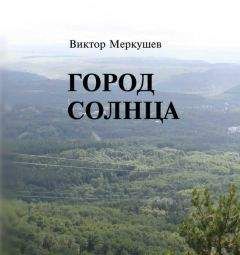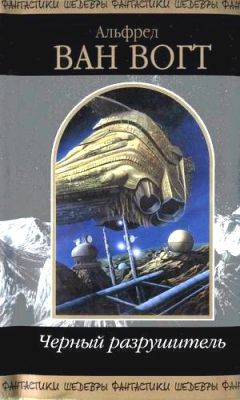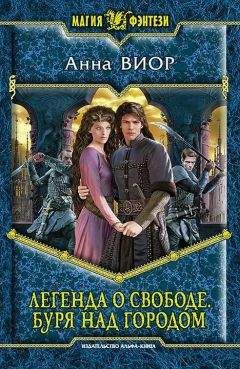Анатолий Курчаткин - Повести и рассказы
Председатель постройкома был еще молод — немного постарше Гольцева, — крупен и широк в плечах. Он тесно сидел в венском, маленьком для его тела кресле, а когда качнулся из кресла навстречу Гольцеву, прямые длинные волосы, распадающиеся посередине на пробор, свалились ему на глаза.
— Итак, значит, Марахонов вас интересует? — сказал председатель, отводя волосы со лба огромной рукой и вслед за тем закуривая. — Сейчас я вам все, сейчас…
Ему принесли папку, и он стал листать бумаги, щурясь от дыма сигареты и изредка взглядывая на Гольцева.
— Пожалуйста. Вот. Решение постройкома управления. Выделить Марахонову И. К. путевку на курорт.
Гольцев посмотрел решение и вернул папку.
— Решение от какого числа?
— Сей-час… — Председатель снова зашуршал бумагами, отыскивая начало протокола. — Ага… одиннадцатое июня…
Гольцев прикинул, сколько же это прошло: выходило, что три с половиной месяца.
— И долго еще ждать?
— Что поделаешь, очередь…
Гольцев достал из кармана письмо, разгладил его на коленях и, не глядя на председателя, сказал:
— Марахонов — инвалид Отечественной войны. И инвалидам Отечественной путевки давать положено без всякой очереди.
Когда он поднял глаза, председатель постройкома сидел, отвалившись на спинку кресла, и оживленное лицо его было растерянным.
— Не может быть, — сказал он наконец.
— Может, — сказал Гольцев. — Читайте, Виктор Михайлович.
Он протянул председателю письмо и встал.
Председатель положил письмо перед собой, взглянул на Гольцева и отвел глаза. Читал он письмо долго, по-школьному сложив на столе руки и шевеля губами. Наконец кресло его заскрипело.
— Вот что, Юрий Николаевич, — сказал председатель. — Я сейчас его личное дело попрошу. Думается мне, не инвалид он. Проверим сейчас…
Он нажал кнопку звонка, и минуту спустя, чуть слышно пришаркивая, к столу прошла женщина с новой папкой в руках.
— Сейчас посмотрим… Ну вот. Никакой он не инвалид Отечественной войны! Демобилизован в сорок шестом. Живой-здоровый.
Гольцев взял папку — Марахонов был демобилизован в сорок шестом по общему приказу.
Вот оно как, не инвалид… То ли написал — инвалид Отечественной войны, не думая о том, что это официальное название, то ли решил соврать… Пойди теперь разберись. Поставлен на очередь — все законно, делать тут ему, Гольцеву, больше нечего…
Но так вот, сразу, остановиться он не мог.
— А уважение к фронтовику, Виктор Михайлович? Не к ранам, но к делам его?
— У нас фронтовиков, Юрий Николаевич, много. — Улыбка гордости разломила толстые, крупные губы председателя. — Кому возле пятидесяти, каждый, считай, фронтовик.
— Но ведь болен человек!
— Так ведь кого на очередь ставим, все больны. Так просто на курорт не попадешь. Справку от врача надо. Все на равных.
Гольцев взял папку со стола, повертел ее в руках и бросил обратно.
— Ну так и что же, Виктор Михайлович? А может быть, ему так плохо — только санаторий и поможет?
— Не думаю, — сказал председатель. — Если человеку плохо, врач пишет: срочно. Срочно не срочно, но стараемся…
— Ясно, — сказал Гольцев. — Ясно.
Он поднялся. Ничего ему не было ясно, и он не знал, что сейчас делать.
Начальник участка сидел у себя за столом и писал. Он поднял от бумаг лысую круглую голову, пожал Гольцеву руку и кивнул на стул:
— Садитесь. Звонил председатель, предупреждал.
Он крикнул в приоткрытую дверь мальчишке-рассыльному, чтобы тот сбегал за Марахоновым, снова сел и принялся писать. Неожиданно бросил ручку, схватил лист бумаги и замахал им в воздухе — чтобы быстрее высохли чернила.
— Марахоновым интересуетесь, а? — с укоризной заговорил он. — Марахоновым, а? — И закачал, затряс головой. — Алкоголиком этим? Нашли тоже кем! Путевку просит? Путевку! Да алкоголик он, ваш Марахонов. Лодырь. Сейчас где-нибудь на ватничке под кусточком спит, седьмой сон видит. И еще курорт ему! Да у него одних выговоров, если поинтересуетесь…
— Выговоров, говорите?
Начальник бросил лист на стол.
— Выговоров!
Дощатая, хлипкая дверь конторки открылась, вошел парнишка-рассыльный, что бегал за Марахоновым.
— Нет его, — сказал парнишка. — Весь котлован облазил — нигде нет. Спрашивал — не видели.
— Вот, — развел руками начальник участка. — Найди его! Домой, наверно, уехал. А до дому его, между прочим, двадцать километров. — Он тяжело выбрался из-за стола. — Выгнать бы Марахонова ко всем чертям, по всем статьям, да маркшейдеров — днем с огнем.
— Ладно. — Гольцев тоже поднялся. — Нет его здесь — дома найду. Всего доброго.
— До свидания, — сказал начальник. — Алкоголик он, ваш Марахонов. Да еще и рвач — путевку ему без очереди. Я бы его выгнал, да маркшейдеров…
Гольцев подергал за веревочку щеколды, пропущенную через отверстие в двери. Щеколда забрякала, послышались шаги, запор откинули, и дверь медленно отворилась.
Человек, открывший ее, был в длинном кожаном фартуке, надетом на голое тело, из-под фартука выглядывали старые, вытершиеся лыжные брюки. В руках он держал рубанок с застрявшей под лезвием желтой, как янтарь, тонкой нежной стружкой, — в глубине двора Гольцев увидел верстак со свежеструганой доской.
— Марахонов? — спросил он.
— Ну да, — сказал человек спокойно, без всякого выражения, исподлобья глядя на Гольцева.
Лицо у Марахонова было бугристое и на взгляд — твердое, как кора старого дерева, и красное — такое бывает от работы на воздухе.
— Здравствуйте, хозяин. Я из газеты.
— Ну, — сказал понимающе Марахонов и теперь только посторонился, пропуская Гольцева. — Тогда знакомы будем.
Он взял поданную Гольцевым руку и пожал ее. Его рука была жесткой и твердой, будто булыжниковая, жилы на руках у него походили на веревки, они синевато просвечивали сквозь кожу, и сама кожа на кистях казалась отшлифованно-красной.
— Не ждали? — спросил Гольцев.
— Ждал, отчего же, — сказал Марахонов. — Я обедать в управление пошел, с Гришкой Лазутиным. В СУ пять мы вместе работали, встретиться договорились. Возвращаюсь, а мне бают: корреспондент приходил, тебя искал. Я тогда самосвал поймал — и домой. — Он снял фартук, бросил его на верстак и махнул рукой: — Проходите.
Дом был мал. Сразу от входа начиналась кухня, узкая, будто коридор, и направо, в дверной проем, завешенный тем, что лет пять назад называлось шторами, виднелась такая же маленькая комната — двуспальная кровать занимала, казалось, чуть не половину ее. И Гольцев подумал, что дом этот Марахонов поставил, наверное, сразу по возвращении из армии, поставил, думая, что на время, да так и прожил в нем, как один год, двадцать с лишним лет…
— Давно строились? — спросил он.
Марахонов обернулся. Глаза у него были упрятаны в частую сетку морщин.
— В сорок седьмом строился. А что?
— Да так, — сказал Гольцев. — Хозяйки нет?
— Нет. По магазинам направилась. Пацаны — один на улице, а второй, почитай, и не вернется сюда. Восемь классов закончил — и поминай как звали. В ПТУ пошел. Садитесь, что стоите. Правда-то, не в ногах она.
Гольцев сел.
Тесно тут было. На кухне едва-едва уместились обшарпанный кухонный стол, тумбочка, два табурета и на стуле — кадка с фикусом.
— Не в ногах, значит, правда, говорите? А где же она?
— Хотел у вас найти, — не сразу, а как бы взвесив каждое слово, неторопливо, с расстановкой ответил Марахонов. — Зачем бы писал иначе?
— Пьете вы много, Иван Кириллович, — сказал Гольцев. — Вот по совести: оттого и болезнь, может…
— А-а!.. Вон вы куда, — перебил его Марахонов. И усмехнулся исподлобья, и крепко прижал кулак к столу. — А о том вы не подумали, что я, может, оттого пью, что болею? В нос мне все тычут: пьешь, мол… а у меня сил нет болезнь мою носить. Как меня схватит — мне свет не мил. А только все и видят, что пьян…
Гольцев вынул сигареты, и Марахонов замолчал. Гольцев протянул ему пачку, Марахонов взял сигарету неловкими пальцами, но не закурил, а покрутил ее в руках, потом положил на стол, придавил пальцем и стал катать.
— Ну так что же, как там… с начальством вы встречались… — сказал он наконец, не глядя на Гольцева. — Дадут или как?
Гольцев закурил.
— Зачем вы написали, будто инвалид Отечественной войны?
Ему показалось — жилы на кистях Марахонова вздулись и сделались толще.
— Ну, а как же… — сказал Марахонов. — Кто же я? Я радикулит не по пьянке, я его в окопах получил…
Сидеть на тесно приставленном к столу табурете было неудобно, ноги у Гольцева затекли. Он выбрался из-за стола и встал к косяку.
— В письме, Иван Кириллович, еще такая есть вещь: если, мол, на курорт не попадете, то не миновать вам ампутации ног.