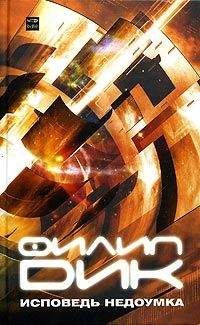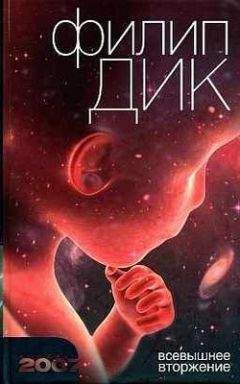Марк Арен - Там, где цветут дикие розы. Анатолийская история
— А если они знают, что я — не посторонний?
— Следят за мной, а не за тобой, — упрямо наклонил голову Аскер.
— Значит, не дашь мне ничего, чтобы я спал спокойнее?
— Снотворное сорок пятого калибра тебя устроит? — нехотя спросил Аскер и, встав, принес с каминной полки полированную шкатулку.
Сулейман открыл ее и восхищенно покачал головой. На пурпурном бархате покоился никелированный кольт образца 1911 года с гравировкой по стволу и костяными накладками на рукояти.
— Заряжен, — предупредил Аскер. — Вторая обойма — в крышке. Ну что, теперь я могу пожелать тебе спокойной ночи?
— Спокойной ночи, брат, — ответил Сулейман и со шкатулкой под мышкой направился к себе в комнату.
Теперь ему стало понятно, почему охранник, открывавший перед его «мерседесом» ворота виллы, остался в гараже. Видимо, там у Аскера был передовой пост. Забор, окружавший ферму, не мог служить защитой. Но из гаража просматривались все подходы к дому — а раз просматривались, значит, могли и простреливаться. Кроме того, в гараже среди всякого железа можно было держать запасы оружия. А его каменные стены не смогла бы пробить даже пуля крупного калибра.
«Странно, что Аскер не предложил мне переночевать там, в гараже, — подумал Сулейман, укладываясь спать. — Наверное, он еще не до такой степени чувствует себя затравленным зверем. Ему еще далеко до меня».
Сам он постоянно ощущал за собой слежку. И был уверен, что следят не ради того, чтобы выявить все его связи. Нет, то была охота. Те, кто следил за ним, выжидали удобный момент для того, чтобы прикончить Сулеймана Гази. Подстроить несчастный случай, к примеру. Или автомобильную катастрофу. Он был обречен и знал это. Однако не испытывал страха.
Сулейман Гази давно уже решил для себя, что жить надо так, будто ты уже умер. Это единственный способ сохранить себя неизменным и остаться верным, когда все вокруг предают.
Проснувшись до рассвета, чтобы совершить утренний намаз, он возблагодарил Аллаха за еще один ниспосланный день.
Аскер не стал его удерживать, когда Сулейман заявил, что хочет уехать. Только предложил машину сопровождения, но Сулейман счел это излишней предосторожностью.
Когда они выехали на трассу, водитель спросил:
— Возвращаемся в Женеву?
Сулейман долго не отвечал, глядя, как за окном проносятся заснеженные склоны. Ему хотелось куда-нибудь, где тепло и солнечно. Но он сказал:
— Нет. Едем в Тироль. Затем — Германия.
Пора рассчитаться со старыми должниками.
Слежку он заметил, когда ехали вдоль озера Маджоре. Возможно, этот серый «опель» прицепился к нему еще раньше, но на извилистых горных дорогах ему удавалось скрываться за поворотами. А здесь, на шоссе, прятаться было негде, кроме как за трейлерами дальнобойщиков.
— Я же говорю, это не профессионалы, — насмешливо сказал водитель, глянув в зеркало. — Полиция никогда не ведет наружное наблюдение одной машиной. Две-три как минимум.
«Опель» выдавал себя тем, что шел на обгон трейлеров каждый раз, когда этот маневр совершал водитель Сулеймана. В результате между ними по-прежнему сохранялась пара машин.
— Не доезжая Локарно, можем свернуть налево и там оторваться, — предложил водитель. — Пусть поносятся за нами, а?
— Не суетись, — сказал Сулейман Гази. — Много чести для них. Еще подумают, что мы их боимся.
Глава 7
Оптимизм таксиста Рустама, как оказалось, был напрасным. Добрые вести не пришли ни назавтра, ни на следующий день. Мустафа Гази бесцельно бродил по Парижу, вглядываясь в лица прохожих, словно надеялся кого-то встретить. Но — кого?
Снова и снова возвращаясь мыслями к событиям двадцатых годов, он приходил к одному и тому же печальному выводу. Ни отец, ни мать не пережили ту пору лихолетья. Война поглотила их вместе с миллионами других жертв. Ведь если бы его родители выжили, они обязательно вернулись бы за ним, за своим ребенком…
Мустафа попытался представить — что могли чувствовать его родители, вспоминая об оставленном сыне?
С чем можно было бы сравнить такое чувство? Он не находил ответа в своей душе и не удивлялся этому. Ведь когда у него самого появились дети, Мустафа не уделял им особого внимания. Не познавший тепла отцовской любви с малолетства, как он мог дарить ее своим сыновьям? Однако любовь эта все же была. Она постепенно разрасталась в его сердце и окончательно созрела к тому времени, когда уже никому не была нужна — дети выросли и разлетелись из-под отчего крова… Демир с головой ушел в бизнес, Лейла уехала учиться в Германию, да там и осталась, и только Сулейман, повзрослев, еще какое-то время оставался с отцом. Он радовал отца своими успехами в университете, но самый счастливый миг Мустафа испытал, узнав о том, что Сулейман вступил в организацию.
А узнал он об этом от самого полковника Тюркеша, да и то, можно сказать, случайно. Полковник как-то заговорил с Мустафой о том, что партию ждут трудные времена и следует заранее позаботиться о переводе за границу наиболее ценных кадров. В списках, которые должен был утвердить Мустафа Гази, значился и Сулейман.
Отец и сын никогда не заговаривали на эту тему между собой, потому что о членстве в организации запрещалось сообщать родственникам. И только накануне переброски Сулеймана в Австрию Мустафа слегка упрекнул сына:
«От меня ты мог бы и не скрывать».
«Ты и сам все узнал, — смутился Сулейман. — И потом, как я мог обратиться к тебе? Это стало бы нарушением субординации. Мне полагается знать только ребят из своей пятерки».
С тех пор прошло двадцать лет, и не было такого года, чтобы Мустафа не узнавал о деятельности сына что-нибудь лестное для себя. Сулейман справлялся с любыми задачами, авторитет его рос, и он быстро прошел путь от рядового до командира соединения.
В конце восьмидесятых годов перед движением встали новые задачи. Усилиями Тюркеша, Гази и ряда сочувствующих политиков удалось практически возродить партию, которая уже считалась полностью разгромленной. Чтобы на равных участвовать в политической борьбе, организации требовались легальные лидеры. И тогда полковник Тюркеш снова напомнил Мустафе о его сыне. Сулейман был известен блестящими организаторскими способностями, и многие в партии полагали, что для него время оперативной работы закончилось. Для того чтобы вернуться в страну, не требовалось преодолевать немыслимые сложности — правительства приходят и уходят, а «Серые волки» остаются и продолжают сохранять прочные, хоть и негласные связи с любым составом кабинета министров. Выйдя из подполья, Сулейман Гази должен был стать координатором, а впоследствии и политическим руководителем.
Но Мустафа, в то время входивший в руководство, настоял на том, чтобы Сулеймана оставили на оперативной работе. Он сознательно оставил сына там, где было опаснее всего. Ведь он всю жизнь жил по принципу: «Никаких поблажек — ни себе, ни другим, тем более своим близким».
Сейчас, вспомнив о том своем решении, Мустафа вдруг ощутил смертельный холод тревоги за сына. Тогда был один из тех поворотных моментов, после которых понимаешь, что жизнь могла бы сложиться иначе. Сулейман мог бы вернуться, мог осесть на одном месте. Мог завести семью, и сейчас у Мустафы было бы больше внуков…
А может быть, если бы Сулейман тогда вернулся домой, это продлило бы дни жене Мустафы? Может быть, если б ее не изнуряла постоянная тревога за сына, она смогла бы дольше сопротивляться болезням?
Обуреваемый горестными размышлениями, бродил Мустафа по парижским улицам, не замечая красот архитектуры, которой когда-то был способен восхищаться. Сейчас ему было не до этого. Старик безуспешно пытался вникнуть в то, что происходило в его душе. Он интуитивно понимал, что, покидая митинг у посольства, он бежал не от своих земляков, а от себя. Он осознавал — то, что с ним происходит, сильнее понимания безнадежности такого бегства. И он не может уповать на свой разум, ибо им изнутри руководит нечто такое, чего ему пока не дано было знать.
Иногда, сидя в номере, он часами разглядывал найденную в письме фотографию. И чем дольше он на нее смотрел, тем очевиднее ему казалось сходство с отцом. В первый раз он уловил сходство только в дерзости взгляда. Да, и он смотрел со своих молодых фотографий с такой дерзостью, с таким вызовом, словно готов был вызвать на поединок весь мир. Но, вглядываясь в лицо отца, он находил все новые и новые детали, которые напоминали ему его самого с фотографий его давно минувших лет… Мустафа Гази снова переводил взгляд к зеркалу, и что-то словно обрывалось в его душе. Его глаза были полны скорби, будто он только что вернулся с похорон и еще не отряхнул ботинки от кладбищенской пыли. Скорбь и мука одиночества пригасили блеск его глаз, и глубокие морщины затягивали их черной паутиной. Дело, которому он посвятил всю свою жизнь, оказалось направленным против него самого. Он думал о том, что если бы ход истории сложился немного иначе и если бы вдруг ему довелось исполнить свою мечту и пройтись по Армении в авангарде танковой колонны — сколько же соплеменников, братьев и сестер, погубил бы он, обагрив свои руки их кровью! А ведь та мечта долго не давала ему покоя! Что же получается? Родину своих предков он видел только на военных топографических картах, сладострастно вычерчивая маршруты танковых бросков!