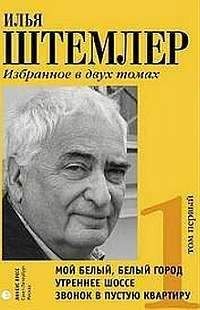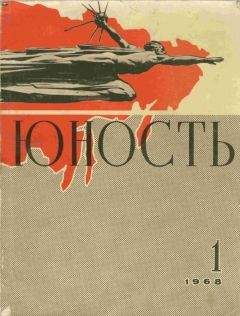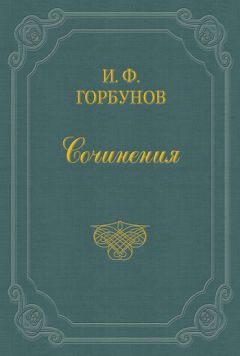Илья Штемлер - Сезон дождей
Оставив Наталью у ординаторской, сестра ушла в процедурную.
Из-за фанерной двери ординаторской слышались голоса и смех, судя по всему, конференция заканчивалась.
Наталья прислонилась спиной к слепому, измазанному до половины серой краской окну. Раньше здесь стоял бурый, в каких-то пятнах, диванчик с продавленным до пола матрацем, из которого вылезали нитки. Зоя лежала в больнице почти месяц, у нее что-то было с почками. И Наталья частенько поджидала на том диванчике доктора. Зою лечила известный в городе врач-нефролог Елизавета Моисеевна Арьева, попасть к ней считалось большой удачей. И верно. Зоя о почках своих забыла. Во всяком случае, не вспоминала. Как не вспоминает о своей лучшей подруге вот уже несколько месяцев. Наталья почувствовала отчуждение Зои почти сразу после свадьбы. Более того, за столом коммунальных платежей однажды утром появилась новая сотрудница. И Наталья узнала, что Зоя перевелась в сберкассу куда-то к черту на кулички, в далекий район новостроек «Гражданка дальше Ручья», названный народом – ГДР. Зоя в ГДР снимала угол с пропиской у какой-то тетки. И почитала ее как мать – своих родителей у Зои не было. Иначе и быть не могло – Зоя обладала на редкость уживчивым и добрым характером. Нужна веская причина, чтобы отдалить ее от подруги. И Наталья догадывалась о причине. Даже странно – Зоя так активно торопила ее замужество и в то же время. Вероятно, так всегда происходит в подобных неразрешимых обстоятельствах.
Доктор Селезнев первым покинул ординаторскую. Наталья сразу узнала его. Невысокого роста, широкоплечий, круглолицый крепыш в белом застиранном халате, доктор скорее походил на борца. Оценивающе оглядел живот Натальи, и взгляд его потеплел. Возможно, доктор узнал ее. Что он мог сказать о вновь поступившем больном Дубровском? Пока нет подробного анамнеза, но предварительно, по первичному осмотру и кардиограмме, у больного Дубровского прочитывается коронарная недостаточность с выраженным склерозом коронарных артерий и стенокардия. А учитывая общее состояние организма – положение больного серьезное, но не безнадежное. Методика лечения пока не определена, но в больнице есть необходимые лекарства, так что беспокоиться не о чем.
– Вера! Кому капельница? – прервал себя доктор, глядя поверх головы Натальи.
– Оленину. Тот прибор мне не нравится, краник пропускает, – ответила сестра.
– Оленину капельницу отменить, – проговорил доктор. – Вкати ему струйную. Полкубика. Строфантина и мочегонного. Он спал ночью?
– Куда там. Всю ночь просидел. И сын был рядом. Атак ничего. Болтает вовсю, сами знаете – профессор.
Сестра вернулась в процедурную, унося обратно штакетник с капельницей.
– Вот и все, что я могу вам сказать, – доктор вновь обратился к Наталье. – И сколько уже месяцев? Пять, шесть?
– Пять, – Наталья продела пуговицу в петлю кофточки, на животе.
– Отец известен? – с грубоватым участием проговорил доктор. – Приличный парень?
Так нередко разговаривают врачи-мужчины, полагая, что профессия дает им особое право свойского тона, рассчитанного на доверие.
– Отец ребенка – мой муж! – отбрила Наталья доктора. – И весьма приличный парень.
– Извините, – засмеялся доктор Селезнев и дружески тронул ее плечо. – Сегодня профессорский обход, а я болтаю с вами.
Наталья вернулась в палату.
Евсей и Эрик о чем-то оживленно разговаривали. Наум Самуилович срезал ножом груши и складывал дольки в блюдце. Михаил Михайлович прикрыл глаза. Гурин сидел на кровати, свесив ноги в теплых носках и накинув больничный халат мышиного цвета. Двое других больных продолжали спать.
– У нас в роте был старшина, – проговорил Гурин, ни к кому не обращаясь. – Так он во сне хрюкал, как кабанчик.
– Не пристрелили? – поинтересовался Михаил Михайлович.
Гурин не ответил и полез за чем-то в тумбочку.
– Наум Самуилович, – проговорил Михаил Михайлович, – как вы полагаете, если человек во сне хрюкает, как кабанчик, он заслуживает, чтобы его пристрелили на сало? Или нет? – Михаил Михайлович тяжело повернул голову, прижимаясь затылком к подушке. – О чем вы думаете, Наум?
– Хотите знать, о чем я думаю? – ответил Наум Самуилович. – Я в детстве почти никогда не ел свежих груш.
– Вы что, жили на севере? – спросил Михаил Михайлович.
– Нет. Я жил под Херсоном. И был вот таким шмендриком, – Наум Самуилович положил грушу на блюдце и приподнял ладонь чуть выше бортика матраца. – У меня был отец Самуил. Он покупал на рынке груши, твердые, как камень – такой сорт, самый дешевый. Он раскладывал их на подоконнике, на солнцепеке. Чтобы груши дошли. Когда наступало время закусить фруктами после супа и пюре на второе, отец их щупал. Выбирал те, на которые уже слетались мухи, и выдавал детям. Я так и вижу его, как он щупает груши и протягивает их мне и брату. При этом отец был добрейшим человеком, но вот такой чудак. Скособоченный на бережливости.
Через двадцать шесть дней Наум Самуилович Дубровский умер.
Под капельницей, днем. Сестра подошла, а больной не дышит. И вроде бы ничего не предвещало подобный исход, Наум Самуилович в последнее время чувствовал себя прилично. Лечащий врач обещал выписать его после пяти процедур, он и четвертую не закончил, скончался скоропостижно.
Накануне Евсей дежурил в палате. За себя и за Эрика Оленина – они так условились подменять друг друга. Михаил Михайлович в тот день выглядел весьма прилично, не в пример Науму Самуиловичу, который к приходу Евсея был возбужден и взволнован.
В ответ на расспросы Евсея лишь отворачивался лицом к стене и громко сопел.
Евсей расставил на полках тумбочки посланные матерью продукты – кефир, кусок отварной курицы, морковные оладьи. Проверил содержимое тумбочки и у Михаила Михайловича: там, как всегда, наблюдался образцовый порядок. Евсей устроился на табурете. Надо заполнить анкету для поступающих на работу в Центральный Исторический архив. Необходимые справки Евсей уже собрал. И фотографии. Работу на должности младшего научного сотрудника с окладом в сто десять рублей ему устроил Эрик, у Эрика оказались надежные связи. Сам же Эрик подрабатывал в Эрмитаже, водил экскурсии на тему «Искусство эпохи Возрождения», на одну аспирантскую стипендию особенно не разживешься. Вот Евсей и собирался сегодня, после больницы, отправиться в отдел кадров архива на набережную Красного Флота.
Наум Самуилович продолжал вздыхать. Потом попросил Евсея пересесть к нему на кровать.
То, что тогда рассказал отец, удивило и рассмешило Евсея. Оказывается, к отцу приходил брат Семен – тот часто навещал Наума Самуиловича, – но вчера состоялся визит особенный. Семен сообщил, что решил жениться на какой-то румынке, своей пациентке. И хочет устроить свадьбу – настоящую еврейскую свадьбу, в синагоге, с хупой. Дело за малым – чтобы старший брат вышел из больницы.
Наум Самуилович пытливо смотрел на сына – как ему нравится эта новость?!
Евсей, сдерживая смех, пожал плечами. Что тут такого? Хочет – пусть женится, Семен уже не молод, перевалил за полста, пора и жениться. Почему на румынке? А почему нет?!
Наум Самуилович еще долго вздыхал на своей больничной койке, уверенный в том, что «эти Семкины штуки» затеяны не просто так. И на вопрос Евсея: что отца теперь беспокоит, ответил, что ему надо всерьез поговорить с сыном, с глазу на глаз. Правда, он не уверен, что сын поймет его правильно.
Слабым движением руки Наум Самуилович удержал Евсея на своей кровати.
– Я хочу уйти от твоей матери, – решительно произнес Наум Самуилович, – я все продумал. Она меня ненавидит! И всю жизнь ненавидела. Только ей не хватало решительности мне об этом сказать. Я ей помогу!
Евсей с изумлением смотрел на отца. А тот, словно боясь, что и малейшая пауза лишит его зыбкой опоры, говорил и говорил. Его мысли обгоняли произносимые фразы, отчего звучали сумятицей претензий и давно копившихся обид, он захлебывался словами. И дело не в том, что мать за все время пришла в больницу два раза, хотя все жены, кто сюда ходят, также днем работают. Не в этом дело! За все годы совместной жизни он, кроме упреков в том, что мало зарабатывает, что не может себя в жизни поставить, ничего не слышал. С тех пор как он вернулся с войны – а прошло, слава богу, пятнадцать лет, – он слышит одно и то же.
– А как она со мной разговаривает при людях! Каким тоном! Как она меня унижает и топчет?! Я тебе больше скажу, – отец перешел на шепот. – Убежден, что в ней проснулся антисемитизм! Все годы она его прятала, но иногда он прорывался!
Наум Самуилович откинулся затылком на подушку, его глаза горели печальным огнем.
– Был бы я другой, был бы я СВОЙ, она не стала бы меня упрекать, выжимать из меня последние силы. Я и в больницу попал потому, что во мне не осталось сил. Человек должен садиться в свои сани! Понял, Евсей, это и тебя касается! Надеюсь, ты понял, что я имею в виду, хотя твоя жена чудный человек и к тебе хорошо относится. Но человек должен садиться в свои сани!