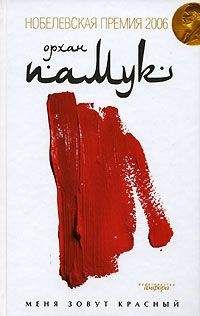Энтони Берджесс - Человек из Назарета
Здесь были подозрительные люди с неискренними улыбками и руками, которые проворно хватали деньги, люди, горевшие желанием показать приезжим могилы пророков. Здесь были пьяные римские солдаты и множество блудниц. При виде похотливых улыбок и зазывно выставляемых грудей его молодая кровь закипала. Он видел откровенные объятия в темных переулках. Ловкие воры, чьи полуголые тела были смазаны жиром, чтобы легче было выскользнуть из рук преследователей, выхватывали кошельки у прохожих. Это был, как казалось Иисусу, город рук — рук, готовых брать деньги, скользить по горячим плечам уличных девок, сжиматься в кулаки во время драк возле таверн. И в Храме — руки священников, которые закалывали визжащую жертву; руки красные от густой козлиной крови и от жидкой крови голубей; руки, испачканные внутренностями ягнят; руки, которые ловко выворачивают кости отбеленного скелета ягненка или козленка и с помощью скрещенных деревянных реек укрепляют их на плоскости, чтобы получилась своего рода патетическая жертвенная хоругвь.
У Храма, на заднем дворе, за которым со сторожевой башни наблюдали вооруженные часовые, чьи-то руки вдруг вцепились в одежду Марии. Это были узловатые, коричневые, высохшие руки, принадлежавшие старухе.
— Елисавета?!
— Она самая! А ты, кажется, ни на день не постарела. Божья благодать расцветает в тебе, благословеннейшая из жен. А это…
— Это — он.
— Что-то Иоанна не видать. Убежал куда-то по своим делам. Ну да ничего, за пасхальным ужином мы соберемся все вместе. Они оба хорошего роста, благослови их Господь. Отец Иоанна мог бы им гордиться. Ах, бедный Захария!
Они сидели за праздничным столом в верхней комнате. Иоанн с Иисусом украдкой разглядывали друг друга, а рабби в это время нараспев произносил древние слова над символической пищей:
— Это хлеб, испеченный в спешке, когда не было времени, чтобы заквасить тесто; хлеб, который ели отцы наши в ночь перед тем, как закончилось пребывание их в Египте. Это горькие травы. Это жареный ягненок, кровью которого были смазаны косяки их дверей, чтобы Ангел Смерти мог увидеть этот знак и прошел бы мимо домов их, не тронув волоска на голове первенца. Жареное мясо ягненка, хлеб, испеченный в спешке, травы, горечь которых должна была напоминать им о горькой жизни в изгнании…
После ужина Иоанн с Иисусом прогуливались по ночному городу. Улицы были залиты светом пасхальных ламп, зажженных во всех домах. Иоанн с Иисусом, оба рослые и крепкие, шли, не опасаясь ни пьяных головорезов, ни сирийских солдат, кричавших вслед евреям оскорбительные слова: «Иегуди! Иегуди!»
— Чем ты занимаешься?
— Работаю в мастерской. В основном пилю дерево. Много читаю.
— Я все время читаю. Я должен стать священником. Как мой отец.
— Ты веришь в отцов?
— Что ты имеешь в виду?
— Отцы, отцы… Множество отцов. А всех у нас один источник жизни, один Отец. Мужчины, которых мы называем отцами, — орудия в Его руках. Откуда берется сила семени? Не от мужчин. Есть только один Создатель.
— Ты странно говоришь.
— Боюсь, что так.
— Боюсь?
— Боюсь, что могу говорить даже более странно. Но пока не буду.
— Ты веришь этим рассказам… ну, про нас с тобой?
— Я не могу ясно видеть будущее. Куда бы мы ни должны прийти, мы должны двигаться медленно.
— Вы уже пришли! — Из темноты дверного проема вынырнула девушка.
— Я говорю слишком громко, — усмехнулся Иисус.
— Нас двое, но комната только одна. Вы не против? — сказала девушка.
Она была большеглазая, в свободном платье, и от нее исходил запах сандалового дерева.
— Прости нас, — учтиво ответил Иисус. — Мы очень тронуты этим любезным приглашением и очарованы твоей молодостью и красотой, но, в качестве оправдания, должны сообщить, что у нас назначена другая встреча и туда мы уже опаздываем.
— Хорошо говоришь, — отозвалась девушка. — Приятно слушать. Ладно уж, дорогой, шагайте дальше, куда вы там направлялись. — И она хлопнула Иисуса по задней части, цокнув языком, будто погоняла коня. Иисус приятственно улыбнулся.
— Ты должен был бы отчитать ее по всей строгости, — заметил Иоанн, когда они двинулись дальше. — То, чем она занимается, греховно.
— Ты мог бы сам отчитать ее, если считаешь, что это было необходимо.
— Я осудил ее взглядом и суровым выражением лица. К сожалению, ты отвлек ее внимание своей небольшой изысканной речью.
— Греховно… Конечно, греховно, — сказал Иисус. — Она сдает внаем свое тело, которое не что иное, как ходячий храм Господа, и побуждает мужчин использовать семя не для увеличения численности воинства Израилева, а всего лишь для их собственного удовольствия. Она зарабатывает на жизнь благодаря греху Онана. Это действительно очень греховно!
— Тем не менее ты улыбаешься.
— Мне понравилась эта девушка. Да, она не благочинна, но как раз благочиние я и ненавижу, а оно тем не менее не числится среди грехов. Перишайа и последователи праведного Садока[66] — люди, конечно, очень благочинные и даже, по их собственному горделивому предположению, святые. Я же считаю, что грешники представляют больший интерес, чем праведники.
— Ты очень, очень странно говоришь.
— Если в будущем нам с тобой придется делать какую-то большую работу, именно к грешникам мы и должны идти. Пора бы нам начинать учиться тому, как впускать грешников в свое сердце. Грешники должны нравиться нам.
— Кому нравятся грешники — тому нравится и грех.
— Нет, вовсе нет! Это то же самое, что сказать: кто заботится о больных — тот заботится о болезнях. Позволь мне отказаться и от слова нравиться. Любить — вот нужное слово.
Как-то раз, гуляя днем поблизости от холма, который своими очертаниями был похож на человеческий череп и на вершине которого происходили казни, Иоанн с Иисусом стали свидетелями сцены, о которой предпочли бы даже не слышать. На их глазах происходило бичевание двух вопящих мужчин, приговоренных к распятию. «Это воры», — поведал друзьям дородный торговец, довольный тем, что мог наблюдать, как вершится правосудие.
Дрожа от ярости, Иисус сказал Иоанну:
— В Законе Моисеевом сказано: «Не кради»[67], но я скорее предпочел бы, чтобы меня обокрали, и сказал бы преступнику «Аминь!», нежели допустил бы, чтобы вора полосовали кнутом и прибивали гвоздями. «Не крадите». А почему, собственно? А потому, что иначе тебя распнут. Взгляни на всех на них, взгляни на их самодовольную благочинность, облаченную в безупречно отстиранные одежды!
Эти громкие слова привлекли внимание многих зевак, которые с любопытством обернулись и увидели высокого мальчика.
— Пойдем отсюда, — сказал Иоанн.
Дрожавшему от гнева Иисусу и самому хотелось поскорее покинуть это страшное место.
Когда пасхальные торжества закончились и пилигримам пришло время покинуть Иерусалим, Мария и Иосиф попытались найти своего сына, но их поиски были безуспешны.
— Он где-то среди молодежи, — сказал хозяин каравана, неопределенно указав на середину готовившейся в путь вереницы верблюдов, ослов и пешего люда. — Они там распевают новые иерусалимские песенки и пиликают на двухструнных скрипках. Ваш сын наверняка среди них.
Но Иисуса там не оказалось.
— Подождите нас, — попросил Иосиф, — нам нужно поискать его.
— Когда солнце коснется верхнего края вон той башни, мы отъезжаем. Никого ждать не будем, — предупредил хозяин каравана.
Мария и Иосиф, очень обеспокоенные, пошли искать Иисуса. Повсюду воры, драчливые сирийские солдаты, разные опасности…
А в это время Иисус в одиночестве отправился в Храм, зная, что тишину его теперь не нарушают ни звон монет, ни хлопание голубиных крыльев, ни блеяние ягнят — все то, что обычно сопровождает возложения даров и жертвоприношения. В переднем дворе он был не один: с башни наблюдали стражники, вооруженные копьями, — так было заведено с того самого дня, когда изображение Тиверия едва не попало в Святая святых. Иисус стер с глаз маячившие на башне фигуры, не пустил в уши грубоватые шутки на плохом арамейском, вроде: «Немного запоздал, йелед, а?» Он стоял посреди переднего двора, ощущая присутствие Бога в невидимом луче, протянувшемся к нему от алтаря, более жарком, чем солнце над головой. Можно было подумать, что он находится в состоянии транса.
Мимо проходил какой-то почтенный служитель Храма, который, увидев Иисуса, мягко спросил:
— Что ты делаешь здесь в одиночестве, сын мой?
— Едва ли я в одиночестве, — ответил мальчик с полуулыбкой. — Здесь Бог.
— «Из уст младенцев и грудных детей…[68]» — начал было священник.
— Я не грудное дитя и не младенец. Впрочем, мне следовало бы подумать — и теперь я говорю это своими устами, — что дитя и младенец одно и то же. По установлению нашей веры, святой отец, я теперь мужчина.