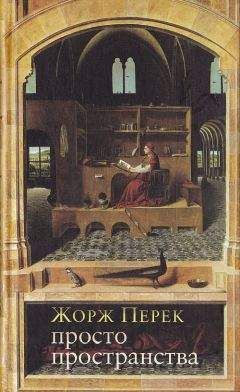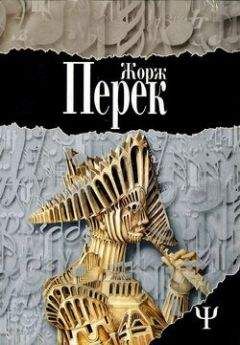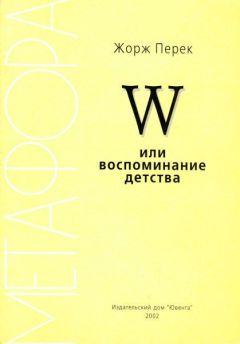Патрик Бессон - Дом одинокого молодого человека : Французские писатели о молодежи
— Ты внутрь-то заходила? Ничего не пропало? Ничего не побилось?
Я ответила, что везде заглянула, иначе расспросам не было бы конца; поразительно однако, до чего же быстро люди распознают ложь, когда с ними говоришь о том, что действительно трогает их. Мама, например, произнесла «ну слава богу» каким-то отстраненным голосом и больше вопросов не задавала, из чего я заключила, что она мне не верит, мое равнодушие к лавке обижает ее, что она даже усматривает в этом некое оскорбление той фанатичности, с которой сама отдается лавке, то есть своей жизни, поскольку жизнь ее сводится теперь к этой фанатичности, ежедневное лицезрение которой начинает раздражать меня. Ложь, допущенная мною из практических соображений, просто чтобы не терять время на объяснения, внезапно открыла и мне и ей, какая дистанция разделяет нас, делая почти чужими друг другу. По сути, мы всегда были чужими, у нас не было общих увлечений, даже просто общего интереса. Смерть папы и замужество Франсуазы все эти годы иллюзорно сближали нас. Мы создали единый фронт против одиночества. Я чувствовала, что теперь это ни к чему.
Мама спросила, когда я вернусь. Я сказала, не знаю. Завтра, послезавтра… Все будет зависеть от состояния Эрика.
— У него что, в Париже никого? Некому о нем позаботиться?
— Нет, он совершенно одинок. Видела бы ты эту больницу…
— Амбруаза Паре? Я знаю, была там, прижигала бородавку в январе. Хочешь поговорить с Паскалем?
— Нет.
— Что происходит? Вы совсем рассорились?
— Это Венера лает?
— Венера?
— Ну, собака Эрика.
— Наверно. Кто же еще? Ты мне не ответила…
— До свидания, мама. Завтра я тебе позвоню.
— Одиль… Одиль…
— Да?
— Завтра звони после восьми — так вдвое дешевле.
— Ладно.
— Ты поняла? Не стоит субсидировать телефонную компанию.
— Понятно. До завтра, мама.
Была половина седьмого. Ужинать я не стала. Ничем не занималась.
Примерно в половине первого ночи позвонила Эльза. Рассказала, что было после моего ухода в комиссариате, что было в Вилле у отца Анри, который ждал их вместе с Паулой. Паула тут же позвонила в больницу, ей ответили то же, что мне, и это заметно разрядило атмосферу. Комиссар отвел сынка в сторону и разъяснил ему, что тот вышел в полуфинал. Такого с Анри, пожалуй, еще не случалось. Он даже не сразу понял, почему: Эрик-то не сможет завтра играть. Анри из солидарности решил не участвовать в соревнованиях, но комиссар вынул свою коллекцию оружия и предложил ему в таком случае выбрать любое и застрелить отца; Анри все понял и отправился чистить тенниски. Комиссар убрал свой арсенал, налил себе кальвадоса и с неподражаемой важностью заявил, что, если Анри выйдет в финал, это будет лучший день его жизни; в знак благодарности сыну будет оплачено обучение в автошколе. Он еще хлебнул кальвадоса и зычным голосом добавил, что, если Анри даст себя побить, он выставит его за дверь. Ему надоело напрасно ждать.
Я поинтересовалась, что с фальшивыми правами. Эльза ответила, что все обошлось. Не сказала — как, да я и не расспрашивала: мне было все равно.
Эльза попросила меня заботиться об Эрике, после этого мы попрощались.
Я легла, но не уснула. Только время от времени впадала в забытье.
В восемь утра была уже на ногах. Во рту — приторный привкус, в глазах — резь. Я приняла душ, оделась и вышла. Улицы Вильмонбля были светлы и пустынны. На привокзальной я купила булку с шоколадом и «Матен». Булку съела, а газету едва развернула. Все потеряло для меня интерес.
Когда я вошла в больничную палату, Эрик писал на листочках бумаги. Нога его в гипсе была подвешена с помощью трудно поддающейся описанию системы блоков, пижамная куртка в белую и красную полоску топорщилась на забинтованном плече.
В палате было еще три кровати, все пустые.
Эрик спросил, что я тут делаю, и я рассмеялась, потому что и сама как раз подумала об этом. Палата с Эриком и со мной — это ни на что не походило. Не город и не деревня. Что-то особенное.
В конце концов я призналась, что осталась, чтобы служить ему гидом в незнакомом городе. Он тоже рассмеялся и отложил письменные принадлежности на тумбочку. Сердце мое бешено заколотилось, я сделала шаг, другой по слишком жесткой для моих ватных ног поверхности.
Поскольку я стояла против света, то не сразу заметила выражение чрезмерной усталости на лице Эрика, круги под его отдающими морской водой глазами, губы, шелушащиеся, как у больных или долго лишенных воды людей. Когда же я увидела все это, мне стало очень больно, он почувствовал это и едва заметно отстранился, проговорив сквозь зубы:
— Я тебе неприятен?
Как раз наоборот, но разве объяснишь?
— Можно войти?
«Знакомый голос», — мелькнуло в голове, и сразу вслед за этим: «Это голос Мишеля, да, это Мишель». Я обернулась и увидела его.
С ним была и Франсуаза. Лицо ее было подчеркнуто неподвижным, словно она только что побывала в холодильнике, в руке она держала небольшой кожаный чемоданчик. К кровати Эрика она подошла несгибаемая, как автомат. Я поздоровалась с ней. Она не ответила. Может быть, с аристократической неумолимостью и опустила ресницы в ответ, но я не заметила.
— Как дела? — спросил Мишель, пожимая Эрику руку.
— Так себе.
— Я подумала, что вам могут понадобиться личные вещи, — проговорила Франсуаза голосом, доносившимся словно из заброшенного собора.
— Благодарю вас, — сказал Эрик, обращаясь к Мишелю. — Очень мило с вашей стороны, что вы привезли мне все это.
Голос Эрика со вчерашнего дня тоже изменился. Стал менее резок, помягчел, но был полон не слабости, а как бы умиротворяющей силы.
— Я подумала о другом, но, думаю, ошиблась… — начала Франсуаза.
— Почему ошиблась? — удивился Мишель и пояснил Эрику: — Мы подумали: ему понадобятся документы, в больнице всегда требуют кучу документов — семейная книжка, свидетельство о рождении, счет в банке, страховка и все такое. Неудобно, правда, было рыться в ваших вещах, во всяком случае, мне… А поскольку вы были более дружны с Франсуазой, чем со мной — с дружбой ведь как со вкусом и цветом — это обсуждению не подлежит, верно? — то она и взяла все на себя.
— Я привезла вам ваш дневник, — сказала Франсуаза.
С появлением в палате моей сестры и Мишеля между Франсуазой и Эриком установился полярный холод. Она сверлила Эрика взглядом, полным лихорадочного возбуждения, а он вел себя так, словно, в палате, кроме него, были только я и Мишель.
— Да, — вдруг вспомнил Мишель, — что ест ваша собака? Нужно ведь и об этом подумать…
Эрика как будто очень поразило, что Мишель задает подобный вопрос.
— Все, что дадут, — ответил он с легкой улыбкой. — Надо только ласково попросить ее.
— О’кэй, босс! Еще я хотел тебе сказать: у нас с Франсуазой никогда не было того, что называется большой любовью… И признаюсь, ты мне нравишься таким, как есть, заносчивым сухарем. Ежели придется свидеться, может статься, мы еще станем корешами…
Сам того не замечая, Мишель перешел на «ты», и я ожидала увидеть на лице Эрика резкое неприятие фамильярности, которая, конечно, была не нарочитой, а естественной, но Эрик ограничился лишь словами: «Кто знает?»
— Ну что ж, чао! Нам надо зайти в лавку. Теще обещали.
Франсуаза повернулась ко мне и спросила:
— Когда вернешься в Вилле?
— Не знаю.
— Мне нужно поговорить с тобой.
— Что ж, говори.
— Не здесь, выйдем.
Последние ее слова непосредственно задевали Эрика, и я несколько секунд колебалась, прежде чем выйти вслед за ней. Я была взбешена. Франсуаза протянула мне пачку сигарет, я отказалась. Зажигая спичку, она спросила:
— Так ты гуляешь с Эриком?
У меня было несколько причин ответить утвердительно, что я и сделала.
Франсуаза дрожала так, что не могла сама справиться со спичкой. Она протянула мне коробок, вынула сигарету изо рта, зажала ее между указательным и большим пальцами правой руки, подождала, пока у меня загорится спичка, затем наклонилась и сделала первую затяжку — так, словно страдала удушьем и ей поднесли кислородную подушку. Затем очень живо выпрямилась, слегка облокотилась о стену, выругалась, вновь затянулась, выждала несколько секунд и с таким видом, с каким пристало только сплевывать на землю, бросила:
— Он подлец.
— Потому что гуляет со мной? — спросила вероломная Одиль.
Франсуаза кинула на мою надменную личность полный жалости взгляд, бросила сигарету на пол, раздавила ее каблуком, начала, да так и не закончила фразу о дневнике, который привезла Эрику. Повернувшись ко мне спиной, она взглянула, что делается на другом конце коридора. Там ровным счетом ничего не происходило. Тогда она спросила:
— Что сказать Паскалю?
— Что я разрешаю ему уйти с…