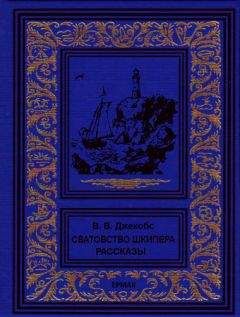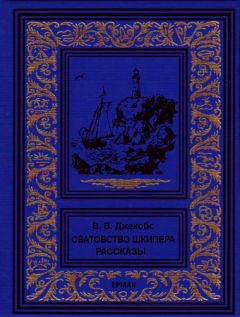Алексей Слаповский - Оно
Гера ответил:
— Самое страшное, что она права. Наташа глупеет на глазах. Что-то, знаешь, такое бабское вылезло. Я чувствую, вместо уюта и тепла, ждет меня кухонный чад, придирки и ревность по любому поводу. Я хочу быть честным. Я потрачу какое-то время, устрою судьбу Наташи и ее дочери окончательно — и тогда...
— Никакого «тогда» не будет, — сказала Юлия, когда Валько пересказало ей это.
— Но я ведь ее люблю, — растерянно сказал Гера, узнав о ее словах.
— А я его уже нет, — отрезала Юлия.
Валько металось между ними, пыталось примирить, соединить, заставить понять друг друга. И, привычно наблюдая за собой, заметило, что, говоря с Герой, становится отчасти как бы Юлией, отстаивает ее позицию, а говоря с Юлией, становится отчасти как бы Герой, защищает его, и при этом волнуется, переживает, будто его судьба решается, его любовь на кону. Оно и в самом деле в это время чувствовало что-то вроде влюбленности одновременно и в Геру, и в Юлию. Хотя все-таки главное было — горькое недоумение: вот два человека, которые должны быть вместе, а они не вместе, создается даже впечатление, что нарочно создают причины и препятствия, чтобы не быть вместе. Попутно Валько осенила странная догадка: люди не выносят одиночества, но делают все, чтобы стать одинокими.
И когда стало окончательно ясно, что ничего поправить нельзя, Валько даже заболело.
26.
Впрочем, это была всего лишь простуда.
Несколько дней оно никуда не выходило, лежало дома. Температура не спадала, пришлось вызвать врача — обычного, поликлиничного, участкового.
Участковым оказался мужчина предпенсионного, а то и пенсионного возраста. У Валько же с детства сложилось свое представление о типичном враче: полная женщина лет тридцати-сорока, блондинка с перманентом, нос пористый, губы крупные, накрашенные, голос резкий и высокий, обвиняющий. Такую женщину он и ждал и заранее настроился: пожурит, побранит — вот, дескать, все сразу разболелись, но осмотрит, выпишет что-нибудь, успокоит. Появление старика поэтому сразу же огорчило, даже до какого-то детского разочарования.
У врача было красное лицо, слезящиеся глаза — то ли с мороза, то ли от других причин: Валько уловило не густой, но явственный запах перегара. Он вошел, не раздевшись, не разувшись, не вымыл рук, сел за стол, положил рядом мокрую бесформенную шапку (крашеный кролик) и тут же начал допрос: фамилия, год рождения, чем болел, на что жалобы. Записав, что требовалось (в том числе, возможно, уже и диагноз, и назначенное лечение), он вынул из чайной чашки, стоявшей на столе, ложечку, взял ее, подсел к Валько, приказал открыть рот, залез ложечкой, осмотрел, потом вставил в свои мохнатые уши рогульки фонендоскопа, послушал легкие. Свернул фонендоскоп, запихал в сумку. Опять сел к столу, начал выписывать рецепты.
— ОРЗ? — спросило Валько.
Врач молча кивнул.
— А не грипп?
Врач мотнул головой отрицательно.
— При ОРЗ высокая температура так долго не держится. А у меня уже четвертый день...
— Все они знают, — проворчал врач. — И неделю может держаться, и больше. От организма зависит.
Валько рассердилось. Вообще-то сердиться надо было раньше: сделать замечание, что врач не разделся, не вымыл рук (с мороза они были еще и очень холодными). Гера учил Валько (и других): если мы хотим исправления нравов, нельзя лениться, нельзя оставлять без внимания ни один факт посягновения на вашу личность, на нормы социалистического общежития, ибо иначе хам укореняется в хамстве, разгильдяй в разгильдяйстве, самодур в самодурстве.
Ничего, сейчас оно ему все выскажет. Валько приподнялось повыше, чтобы было удобней говорить. И вдруг, словно приподнялось оно не на несколько сантиметров, а гораздо выше, Валько увидело себя и старика откуда-то со стороны и сверху. Убогая комнатка, освещенная убогим светом настольной лампы в белом матовом абажуре. Участковый щурит глаза, ему плохо видно, но встать и включить верхний свет ему лень, он спешит закончить скучное дело — чтобы быстрее попасть в другой скучный дом, к другому скучному больному. А там, глядишь, и кончится рабочий день. А больной — видело Валько — лежит, тщась заявить свои права, корячится, чужой и ненужный этому старику. Два чужих и не нужных друг другу человека сошлись, как постоянно в жизни и бывает: люди сталкиваются, расходятся, равнодушные, безразличные. Но старик-то вернется домой. Там у него, возможно, старуха. И дети, и внуки. И даже пусть одна старуха — живая душа, есть с кем слово молвить. И даже пусть старухи нет, но обязательно кто-то есть. Собака. Или соседи, к которым можно зайти. Поговорить о погоде, слегка поругаться, мало ли... А Валько останется тут — абсолютно никому на этом свете ненужное...
И, вместо того, чтобы разразиться гневным монологом, сказать что-то, что сказал бы в такой ситуации Гера, то есть максимально вежливо, выбирая слова и обдумывая их (и монолог даже был готов: «Извините, пожалуйста, я не специалист и гораздо моложе вас, поэтому, возможно, не вправе сомневаться в том, что вы делаете, но мой организм принадлежит мне и он у меня один, поэтому его состояние меня беспокоит. У меня, кроме температуры, сердцебиение, шум в ушах, голова кружится, подташнивает. Вам это знать не обязательно?»)
Валько ничего этого не сказало.
Оно заплакало.
Заплакало, рывком ерзнуло в исходную лежачую позицию (так резко и решительно ерзают обиженные дети), отвернулось к стене, накрылось одеялом.
— Что это с вами? — послышался удивленный голос старика — проняло-таки его!
— Ничего! Вам-то какая разница? Вы отметились, чего-то там себе записали — до свидания! Я подохну здесь, вас что, это волнует? Да ничего вас не волнует!
Неожиданная опустившаяся на постель тяжесть, невидимая из-под одеяла, напугала Валько, оно выпросталось, резко повернулось к подсевшему врачу:
— Идите, я сказал!
— Ты не психуй, — посоветовал старик. Глаза его, казавшиеся пустыми и бесцветными, смотрели теперь умно и пристально. — Что это с тобой? Ты с кем живешь вообще? — старик оглядел комнату.
— Ни с кем. Неважно.
Однако вопрос, заданный хоть и без особого сочувствия, всего лишь с любопытством, но любопытством заинтересованным, доконал Валько: оно разрыдалось.
И, плача, Валько взяло да и рассказало этому человеку почти все о себе. Включая главное. По мере рассказа глаза старика смотрели все умнее, вернее — все более соображающе. И даже перегара, казалось, от него стало меньше.
Выслушав, задумчиво сказал:
— Чего только на свете не бывает...
Еще поговорили после этого. Старик, при ближайшем рассмотрении оказавшийся совсем не стариком (примерно пятидесяти пяти лет), мягко и задушевно вытянул из Валько все до донышка: кем работает, чем грозит его работе и вообще существованию раскрытие тайны. После этого успокоил, похлопал по плечу, укрыл, взялся сходить за лекарствами. И сходил, и даже чаю согрел, и обещал навестить на другой день.
Что и сделал.
И ходил каждый день до полного выздоровления.
И Валько тогда не догадывался, кем станет для него этот человек, Эдуард Станиславович Мадзилович, пьющий вдовец, имеющий взрослую дочь-сына, болезни печени, почек и желчного пузыря, неоднократные взыскания по работе и несерьезные мечтания выиграть когда нибудь в лотерею большую сумму денег.
27.
Валько сделало вывод: одному быть опасно. Кончается такими вот исповедями. Надо — что? Подселить к себе кого-то из бедных студентов? — многие ведь для экономии живут по двое и трое, снимая комнаты и квартиры, обычное дело. Нет, с человеком он ужиться не сможет. Салыкин, было дело, конфликтуя с родителями, заживался на три-четыре дня — нет, неловко, неудобно.
Валько завело кошку.
Вернее, она сама завелась. Он. Кот. Забрел, забился под лестницу и там мяукал. Это случилось именно тогда, когда Валько решило взять в дом какую-нибудь живность. Подобные совпадения (подумал — свершилось), в его жизни бывали уже не раз, он привык. Правда, он думал о собаке. Именно она все-таки друг человека, с собакой можно разговаривать, и она, если и не понимает смысла, то понимает интонацию; Валько приходилось бывать в семьях, где есть собаки, наблюдал. У московской красавицы, которая пыталась его соблазнить, был потешный бидлингтон-терьер, она прятала от него мячик и спрашивала: «Купер, где мячик, куда он подевался?» И Купер склонял набок голову, растерянно смотрел на хозяйку и словно даже пожимал плечами: «В самом деле, где этот чертов мячик?»
Валько спустилось, увидело: серый в полоску кот (почему-то сразу угадалось, что кот, а не кошка) надрывался равномерно и в одной тональности, не обратив внимания на Валько. Это был еще не взрослый кот, но и не котенок и не подросток. Что-то вроде кошачьего юноши, поэтому Валько так к нему и обратилось:
— И чего орем, юноша? Пошли? Кис-кис-кис! Не хочешь? Дело твое.
Валько пошло в квартиру, и тут кот, не прекращая воплей, направился за ним.