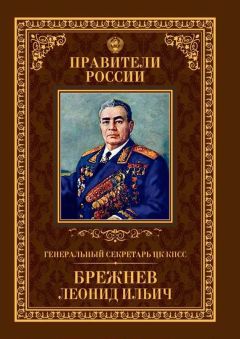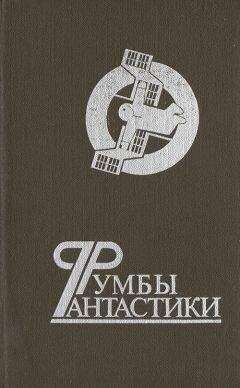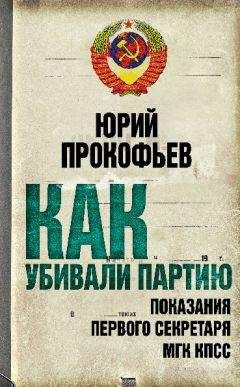Габриэль Витткоп - Хемлок, или яды
— Это великий грех! - воскликнула Лукреция. — Вдумайся, если это случится в Петрелле, дон Марцио Колонна не успокоится, пока не отыщет виновных. Спаси и сохрани, Господи...
Глаза темно-винного цвета широко распахнулись:
— Но я так хочу! Хочу! Хочу!
***
Заговор составлен, и нам известно, что в нем нет ничего нового: загримированные персонажи, которые даже не нужно шаржировать, надежные декорации цвета золы и скотобойни - драму можно начинать.
Но для Хемлок, заинтригованной однородностью персонажей, аномальной преемственностью характеров, все это - чрезмерное упрощение. Лучше было бы вспомнить двусмысленный плиточный пол палаццо Ченчи, учитывая, что всякая мысль, всякое желание способны выразиться в фигуре, заключающей их же перевернутый образ. Стóит задуматься над тем, что повторяют зеркала и что означает отбрасываемая тень.
Беатриче Ченчи в тюрбане, с грациозно склоненной на плечо головой, больше не поддается анализу, будто намекая, что лучше уж положиться на некий анаморфоз, внешне искаженный ребус, который под определенным углом раскрывает другой деформированный образ. Ну а Хемлок неожиданно встречает дочерей Каина - так Гёте однажды столкнулся на мосту со своим двойником, хотя окольные пути подобных «неожиданностей» хорошо известны.
— Мне очень жаль, - говорит Хемлок, - но девушка, «плачущая горячими слезами» на картине Гвидо Рени[63], увиденной Стендалем, - вовсе не Беатриче Ченчи.
— Кто же она?
— Девушка, которая могла быть Беатриче Ченчи.
После чего Хемлок вновь погружается в молчание: сегодня она получила неприятное письмо. Все было бы проще, не существуй X. вообще. Стало особенно трудно выносить X. перед отъездом. Хемлок переживает теперь все заново: порванный корешок альбома Беллмера[64]; разжеванный и раздавленный на маньчжурском ковре шоколад; запах молочной сыворотки, разложения и забродившей мочи, присущий очень пожилым людям, который нельзя устранишь ни водой, ни свежим бельем. Страх Хемлок перед длительной мукой. Врач говорил о постепенном вырождении, медленной потере интеллекта вплоть до полного слабоумия.
— Знаю, - говорит X., - знаю. Ты твердишь об этом изо дня в день, лишь бы подтолкнуть меня к смерти.
Хемлок должна привыкнуть думать и говорить так же, как Беатриче привыкла ходить - чтобы не скрипели половицы. Хемлок приводит в отчаяние мысль о смерти X. Хемлок строит заманчивые планы, которые воплотит после кончины X. Ее давно уже не удивляет эта двойственность, Хемлок даже черпает в ней странное удовольствие.
— Вы читаете по-немецки?
— Читаю, но плохо, - отвечает маркиз, разворачивая пучок лука-порея.
Желая помочь ему чистить овощи, Хемлок берет острый ножик, похожий на тот, что гладила по тупому лезвию Беатриче.
— Возможно, вы понимаете фразу Готфрида Бенна[65]: «Mein eigenes Doppelleben war mir nicht nur immer sehr angenehm, ich habe es sogar mein Leben lang bewuβt kultiviert»[66]?
— Приблизительно, дорогая подруга, - отвечает маркиз, разрезая нефритовые листки и телесные цветки копытня, которые он затем сбрасывает в кастрюлю. - Но какое отношение это имеет к истории Беатриче Ченчи?
— Никакого. Это-то меня и тревожит.
***
Хотя стояло лето, однако ночные дожди уже сбивали недозрелые груши, еще белые орехи, мягкие оболочки каштанов. Тропинки пахли пылью и подорожником, горную породу забрызгивали охряные пятна лишайника, над листвой поднимались колтуны наростов, а сама она покрывалась серебряными сеточками, лаком и паршой. Летом в траве начиналось влажное бурление, слышался свист выжимаемой губки, потрескивание красновато-коричневой птичьей падали и дикое клокотание разлагавшихся белок. Лето достигло зенита и уже сделало первый шаг вспять. Вечером 7 сентября с гор вдруг подул сильный ветер, шатая деревья и выгоняя из убежищ ворон.
Дон Франческо весь день провалялся в постели, сломленный двумя враждующими родственниками - вином и опием. Под вечер Беатриче послала Марцио в деревню за Олимпио, однако слуга вернулся один.
— Я не нашел его, донна Беатриче, но велел жене, чтобы отправила его сюда.
Около полуночи Олимпио наконец явился, и Беатриче услыхала, как открылись ворота, ключи от которых были только у мажордома. Подняв лампу, она выглянула из окна во двор и увидела Олимпио вместе с Марцио: тому, видимо, хотелось провалиться сквозь землю. Беатриче нахмурилась, теряя терпение, и желтая лампа осветила один профиль, второй же остался иссиня-черным. Беатриче довела их до комнаты Франческо, «открывавшейся лишь изнутри», и тихонько постучалась. Открыла донна Лукреция, которая, быстро выйдя, захлопнула за собой дверь:
— Только не этой ночью, умоляю вас. Уже наступило 8 сентября, праздник Лоретской Богоматери. Быть может, она сотворит для нас чудо... и дон Франческо умрет сам, так что вам не придется марать руки...
Лоретская Богоматерь выручала Олимпио в разных нестандартных ситуациях, и потому он почтительно коснулся шляпы под разгневанным взором Беатриче.
— Тьфу!.. Вы думаете, дон Франческо вознесется на небо живым в огненной колеснице, как пророк Илия?
Оставив Лукрецию, Беатриче отвела обоих мужчин в комнату с Пляской смерти, дала им хлеба, мортаделлы из Кампотосто и темного деревенского вина - такого же оттенка, как ее глаза. Мужчины ели молча, громко чавкая. Ветер улегся, и горы словно затаили дух в ожидании жестокого чуда. В глухой ночи лишь ухнул филин.
— Пошли! - сказала Беатриче и при свете наполовину прикрытой лампы погнала их к отцовской комнате. Лукреция удалилась по коридору, плача от страха, а они молча и неподвижно уставились на Франческо, который спал на боку, зарывшись в беспорядочную груду одеял, повернутый к ним спиной. Вдруг Олимпио судорожно закашлялся. Беатриче мигом вытащила его наружу вместе с Марцио.
— Трýсы!.. Проклятые трусы!.. Олимпио, ты нарочно закашлял, не отпирайся!..
В бешенстве она схватила его спереди за камзол, резко затрясла, осыпала оскорблениями и попрекнула тем, что он раскаялся в принятом решении.
— Я уже доказал, что я не трус. Испытай меня еще раз. Ты же прекрасно знаешь, по твоему приказанию я спущусь хоть в саму преисподнюю.
Она немного смягчилась, постаралась ободрить Марцио, повторила свои обещания, почти развеселилась и решила перенести все на завтра.
— Я изловчусь и подолью опия в вино дона Франческо, а когда он уснет, вы разделаетесь с ним, как вам заблагорассудится. Затем мы сбросим его с миньяно, чтобы все поверили, будто он случайно упал по пути в нужник.
Она повела их по ночным коридорам Петреллы на чердак, куда никто не заходил. Темные, они взбирались вслед за ней, белой, по узким винтовым лестницам, и свет лампы окаймлял их силуэты светлым контуром. Прихватив с собой кувшинчик и круглую буханку, оба улеглись на мешки в покрытой толстым слоем бархатной пыли чердачной комнате, где воняло крысами.
Когда Беатриче спустилась обратно, рассвет уже заполнил оконные проемы серовато-синими прямоугольниками. Было холодно, и она, не раздеваясь, юркнула в постель, забыв о времени суток, позабыв обо всем и словно выйдя из тела. Беатриче тотчас уснула, а из оцепенения ее вывели только голоса служанок в спокойный и теплый полуденный час.
За обедом Ченчи выпил наваристого говяжьего бульона с пастернаком, затем съел половину фазаньего паштета, рикотту[67] со стеблями сельдерея, запеченный щавель, сливовый компот, пожаловался на отсутствие аппетита и осушил кувшин крепкого сардинского сорсо. Затем, непрерывно почесываясь, завалил Лукрецию на скамью, после чего спустился, дабы поизмываться над челядью, и наконец впал в ступор. За ужином Беатриче, обязанная проводить дегустацию, подождала, пока Франческо напьется, и подлила в вино опий. Отец ничего не заметил, а она в нетерпении выжидала - казалось, целую вечность. Наконец около одиннадцати удалилась вместе с Лукрецией в свою комнату.
Беатриче ждала в изнеможении, лежа на кровати, и следила за двигавшимся по полу параллелепипедом лунного света. «Когда он коснется стены, - мысленно повторяла она, - когда коснется стены...» Но луну скрыл туман, и все вокруг затопил рассеянный, зеленовато-молочный свет, похожий на цветки цикуты. Затем он тоже померк и стал мертвенно-бледным - наступил рассвет.
Беатриче вдруг захотелось есть, но под голодом скрывалось желание действовать - быть может, просто перекусить для того, чтобы не убивать, или, наоборот, поесть и убить. Она спустилась на кухню, отрезала себе хлеба и сала, спрятала в рукаве острый нож и длинными, хранившими ночной запах коридорами направилась на чердак, где ее дожидались мужчины. Внезапно возникли сомнения, замешательство: говорили они мало, жесты были краткими и неуверенными, фигуры вырисовывались серыми силуэтами. Когда прошло смятение чувств, место действия постепенно окутала тусклая аура импровизированности, непоследовательности, недотепства. Олимпио вооружился молотом каменолома, Марцио взял скалку для теста.