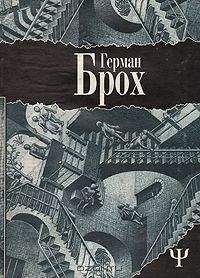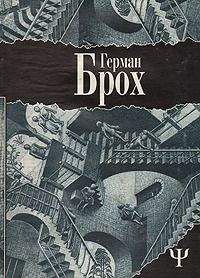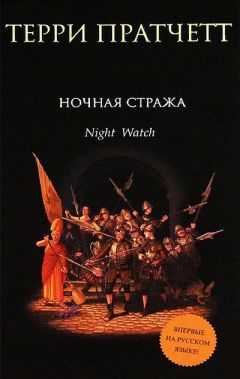Герман Брох - Избранное
А. в ответ:
— В вашем доме царит мир, баронесса.
Как ни странно, баронесса словно бы покачала головой. Но, может быть, это было только старческое дрожание. Ибо, не дав прямого ответа, она с усилием встала с кресла, и А. даже подумал было, что их беседа на этом закончилась, однако не успел он еще приступить к прощальным словам, как она сказала:
— Не мешает по крайней мере показать вам комнаты.
И, опираясь на свою шаткую трость, она пошла к двери, позвонила там в звоночек, устроенный сбоку от дверного косяка, и, показывая дорогу, вышла в прихожую, а уж там к ним присоединилась старуха горничная; и, проведя гостя через темное, довольно вытянутое помещение, обе женщины впустили его в сумеречную комнату, где темные вещи чернели на фоне белой стены. И, словно бы в ожидании гостя, там на покрытом веселенькой кретоновой скатертью столе уже стояла ваза со свежими васильками и маками.
— Дочка всегда следит, чтобы были цветы, — сказала баронесса и затем распорядилась: — Отвори окно, Церлина.
Старая Церлина исполнила приказание, и в комнату пахнуло ласковым садовым воздухом.
— Эта комната у нас всегда служила для гостей, — сказала баронесса. — Там, рядом, — спальня.
И тут старушка Церлина с таким видом, словно она жениха привела в невестину спальню, неслышно, как тень, зашмыгнула в дверь соседней комнаты и скрюченной от ревматизма рукой как бы исподтишка поманила за собой гостя войти и полюбоваться кроватью, на которую уже и указывала ему пальцем.
Баронесса осталась в первой комнате и оттуда окликнула служанку:
— Церлина! А как шкаф-то, очистила? Хорошенько вытерла?
— Да, сударыня. И шкаф очистила, и на кровать уже все свежее постелила.
И с этими словами она раскрыла дверцы шкафа, провела ладонью по одной из полок, чтобы вместе с нею А. сам мог убедиться, что внутри все сверкает чистотой.
— Ни пылиночки, — промолвила она, разглядывая свою ладонь.
— Не забудь проветрить спальню!
— Я уж и так проветриваю, сударыня, — отозвалась Церлина и сама продолжила беседу: — Я и воды налила в оба кувшина.
— Что же, — сказала баронесса, очевидно скуповатая на похвалу, — налила и ладно. А вечером все-таки сменить воду не мешает.
— Вечером я тепленькой принесу, — так и козырнула служанка, чтобы перещеголять свою госпожу.
Под эти разговоры А. отошел к окну подышать ласковым воздухом сада. Еще стояли сумерки, но в одной из комнат нижнего этажа уже загорелась лампочка, и на цветочные грядки легла полоска света, придавая призрачный вид многоцветью роз и превращая их листья в лакированную жесть. Но подальше от дома — в глубине сада, там, где стояли белые скамеечки, — еще царили естественные дневные краски, немного приглушенные сумерками, и гвоздики, густо посаженные по бокам главной дорожки, склонялись над нею своими матовыми, иссиня-зелеными стебельками.
Как ни хорош был безмятежный покой, источаемый садом, но он исподволь отвлекал гостя от его первоначального намерения. А. почувствовал это и сделал слабую попытку поправить дело.
— У меня, собственно говоря, были виды на комнату с окнами на улицу.
— А какое тут по утрам бывает солнышко! — сказала на это старая Церлина и в ответ на его соглашающуюся улыбку добавила тихо, так, чтобы не услышала из соседней комнаты ее госпожа: — Вот и сынок у нас есть.
А. с удовольствием посмеялся бы над ее словами, но, оказывается, не смог. Он вернулся в первую комнату, где все еще стояла, опираясь на палку, баронесса. Можно было подумать, будто между этими женщинами подспудно существует неразрывная мысленная связь, даже когда они что-то утаивают друг от друга, ибо баронесса вдруг спросила:
— Кстати, сколько вам лет, господин А.?
— Да уж четвертый десяток пошел.
Он всегда стеснялся расспросов насчет своего возраста. У него были светлые волосы и тонкая кожа, сложения он был хрупкого, в очертаниях губ и подбородка недоставало твердости, зато взгляд его голубых глаз отличался живостью, поэтому он производил на людей такое моложавое впечатление — пожалуй, что чересчур моложавое, думал он сам. Добиваясь (без особого, впрочем, успеха) внешней солидности, он решил отпустить небольшие подстриженные бакенбарды во вкусе эпохи бидермейера[9].
— Четвертый десяток, — повторила баронесса. — Четвертый… А моей дочери… — Но тут она замолчала, судя по всему едва не проболтавшись насчет возраста своей дочери. Подумав, она продолжала: — А какая у вас профессия?
Из какого-то упрямого озорства, а отчасти еще и для того, чтобы испытать, как далеко позволено зайти сыну и сколько ему простится в родительском доме, А. чуть было не соврал, что он политический агент. Но с какой стати ему было ставить на карту едва одержанную победу? И он назвался негоциантом, занимающимся драгоценными камнями. Конечно же, это было тоже довольно рискованно. Ведь баронесса легко могла бы предположить, что под прикрытием торговли драгоценными камнями он занимается опасными спекуляциями, а не то еще вообразила бы, пожалуй, что он втерся в дом, имея виды на ее фамильные драгоценности.
Но, по всему судя, баронессе такая мысль еще не приходила в голову. И слова эти, очевидно, не связывались в ее представлении ни с каким понятием: на ее лице появилось растерянное выражение что-то недослышавшего человека.
— Драгоценными камнями? — переспросила она.
Церлина, вошедшая следом за ним, тотчас же подтвердила:
— Да, да! Драгоценными камнями!
Но не в пример хозяйке она произнесла это ободряющим тоном, как будто бы у А. обнаружилась самая почтенная профессия и с нею вполне можно примириться.
— Вернемся назад и там обсудим все остальное, — решительно заявила наконец баронесса, которой, очевидно, неловко сделалось в комнате у негоцианта, занимающегося драгоценными камнями, и потому она вместе с А. отправилась в залу. Церлина же скрылась на кухне.
Оставшись вдвоем, они снова уселись друг против друга, и баронесса нерешительным тоном спросила:
— Так, значит, вы работаете ювелиром, господин А.?
— Нет, баронесса, я торгую драгоценными камнями, это разные вещи.
Может быть, баронессу смутило упоминание о торговле, наверно, ей сразу представились другие торговцы — зеленщики, бакалейщики, словом, всякая простежь; надо думать, по ее понятиям, любой торговец был человеком, которого нельзя принимать в порядочном обществе. И ей неприятно было бы пользоваться одной ванной даже с ювелиром. Поэтому она сказала:
— В делах моя дочь разбирается лучше, чем я. К сожалению, ее нет сейчас дома…
Догадываясь об истинной причине, А. пустился в объяснения:
— Торговля бриллиантами — очень хорошая профессия. Я много лет провел на алмазных копях в Южной Африке.
— О! — отозвалась баронесса. К ней вновь возвращалось доверие.
— Вот только покончу с делами в Европе — и снова уеду в Африку.
— О! — промолвила баронесса, все более доверяя ему, и забыла осведомиться, какого рода дела привели его именно в этот город. Глядя на вас, не подумаешь, что вы — англичанин.
— Я подданный Голландии.
Это решило дело. Баронесса вздохнула с облегчением. Приютить под своим кровом иностранца, приехавшего из дальних стран, так естественно: это куда легче и приятнее, чем пустить к себе в дом местного жителя. То, что иначе показалось бы сделкой двух бедняков, приобретает видимость великодушного гостеприимства, когда речь идет об иностранце. Так что, не прибегая даже к словам, эти двое, сидевшие в комнате, в которой начали сгущаться сумерки, достигли между собой согласия. Гравюры в вишневых рамках, изображавшие архитектурные виды, смутно чернели по стенам, и только на двух писанных маслом картинах с римскими пейзажами, которые висели в простенках между окнами, еще можно было различить линии и потухшие краски. Отдаленное напоминание о свете. Совсем как мать и сын, которые присели вечерком, чтобы вместе помолчать, сидели они друг против друга, а в окнах светилось уже очистившееся от облаков, шелковистое светло-зеленое небо, и над западными крышами румянились перламутровые отблески зари. При таком задушевном настроении А. испросил разрешения выйти на балкон и вышел.
И вот перед ним та самая треугольная площадь, он видит ее, пускай не так — но ведь почти так! — как ему мечталось. Уже потемнелые, стояли деревья сквера, окруженные отчетливой светло-серой каймой совершенно просохшего асфальта, которым была покрыта широкая набережная. Вокзал осветился изнутри огнями, там остался вестибюль с гостиничными служащими, но А. о них и не вспомнил. Он разглядывал сверху редких пешеходов, которые неслышно проходили вдоль домов, слушал, как поскрипывает песок под ногами людей, бредущих по S-образной аллее, любовался собаками, которых вывели на прогулку. Временами нет-нет да и пискнет откуда-нибудь птичка; ласкающий воздух напоен влагой; изредка взлаивала собака. Родиться; стать от материнской плоти — плотью; воплотиться и стать телом, чтобы ребра вздымались от дыхания, чтобы пальцы охватывали железную балюстраду, чтобы мертвому быть в живом охвате; вечное чередование живого с неживым, одно другому приют бесконечно призрачный: да, родиться и затем отправиться по свету и странствовать по его приветливым дорогам, и чтобы детская рука неизменно покоилась в материнской руке — вот это самое естественное счастье человеческого бытия открылось ему со всей очевидностью, пока он стоял на балконе, прилепившемся к стене дома, чувствуя у себя за спиной надежность домашнего приюта, и глядел сверху на темную лужайку и темные деревья, памятью зная про кусты роз в саду позади дома, про полосу домов, что пролегла Между живым — и живым, между растущим — и растущим, про полосу из камня и дерева мертвое изделие человеческих рук, которое все равно родной приют. И А. знал, что ему позволено когда угодно возвратиться и что та, которая ждет в комнате, будет ждать терпеливо, так терпеливо, как мать ожидает свое дитя.