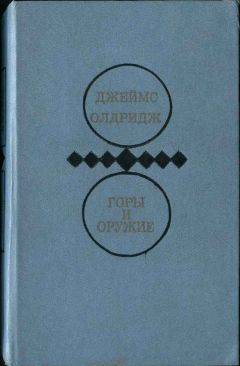Ласло Краснахоркаи - Сатанинское танго
V. Распутать паутину
Это было нелегко. Целых два дня понадобилось ей на то, чтобы сообразить, куда ставить ноги, за что ухватиться и как затем протиснуться в безнадежно узкое, на первый взгляд, отверстие, образовавшееся в задней стене дома, под навесом, на том месте, где не хватало нескольких досок. Сейчас, конечно, ей достаточно было полминуты: рискованным, но уверенным движением она запрыгнула на укрытую черным брезентом поленницу дров, уцепилась за водосточный желоб, левую ногу сунула в дыру и сдвинула влево, затем просунула следом голову и, оттолкнувшись правой ногой, оказалась, наконец, на чердаке, в той его части, которая когда-то давно была отведена под голубятню. Здесь находилось ее собственное царство, секрет которого знала она одна. Здесь не надо было опасаться неожиданных и непонятных нападений старшего брата, однако же она инстинктивно следила, чтобы ее длительное отсутствие не вызвало подозрений у матери и сестер. Ведь если ее тайна раскроется, они безжалостно велят ей вылезти отсюда и тогда все дальнейшие усилия оказалась бы напрасными. Но какое это имело значение теперь! Она стянула с себя промокший до нитки свитер, оправила любимое платье — розовое, с белым воротником — и уселась у «окна». Зажмурив глаза, подрагивая, готовая в любое мгновение отскочить в сторону, она слушала, как по черепице стучит дождь. Мать спала внизу, в доме, сестры еще не приходили обедать, так что она была почти уверена — никто не станет ее искать в эту пору, разве что Шани, о котором никогда нельзя было сказать, где он находится в ту или иную минуту — он появлялся всегда неожиданно, словно разыскивал какой-то секрет, скрытый на хуторе и обнаружить его мог одним-единственным способом — внезапным нападением из-за угла. Собственно говоря, реальной причины для страха не было. Никто ее не искал, более того, ей было строго велено держаться подальше, особенно когда — а такое случалось нередко — в доме был гость. Пожалуй, никто в целом свете не мог одновременно выполнить два требования: не крутиться возле дверей и при этом не уходить далеко. Ведь она знала, что в любой момент ее могут позвать («Эй, сбегай, купи вина!», или «Дочка, принести три пачки сигарет, «Кошут», не перепутаешь?»), но один упущенный случай — и ее навсегда изгонят из дома. Поэтому оставалось ей только одно. Когда мать, «по обоюдному согласию», забрала ее из коррекционной школы и поручила ей работу по кухне, то от страха, что ее обругают, все у нее постоянно шло вкривь и вкось: тарелки бились об пол, от кастрюль отлетала эмаль, углы зарастали паутиной, суп получался безвкусным, а паприкаш пересоленным… Когда окончательно стало ясно, что она не способна справиться даже с самыми простыми обязанностями, не оставалось ничего иного, как выдворить ее с кухни. С того времени дни ее протекали в судорожном ожидании за амбаром или, порой, у торца дома, под козырьком, откуда можно было следить за дверью на кухню таким образом, чтобы ее никто не мог заметить, но при этом сама она была способна явиться по первому же зову. От вечного пребывания в состоянии напряженной готовности все чувства ее расстроились: зрение было почти целиком сосредоточенно на кухонной двери, которую она теперь воспринимала с небывалой остротой, до режущей боли: она одновременно различала мельчайшие детали и сверху, на двух грязных стеклах, которые были занавешены кружевными шторками, прикрепленными двумя канцелярскими кнопками, и внизу, где находилась заляпанная засохшей грязью ручка. Все формы, цвета, линии сплетались в одну жуткую сеть — она чувствовала даже самые незначительные изменения в положении двери, и время порой необычным образом ускорялось, сообщая о постепенно растущей опасности. Когда же неподвижность внезапно прекращалась, все вокруг нее приходило в движение: мимо проносились стены дома, навес выгибался дугой, стремительно пролетало окно, слева проплывали амбар и заброшенный цветник, небо начинало раскачиваться, земля уходила из-под ног, и вот она уже стоит перед матерью или кем-нибудь из сестер, не успев даже заметить, как отворилась дверь кухни. Одного мгновения, прежде чем опустить глаза, ей было достаточно, чтобы узнать их, ведь ей не требовалось ничего иного, так как фигуры матери и сестер уже так давно стали частью этого заполненного покачивающимися предметами пространства, что она и не глядя чувствовала, что она стоит там
перед ними
внизу
равно как знала и то, насколько они выше ее, так что если бы она вдруг отважилась взглянуть на них, то их образы наверняка бы разрушились, поскольку их неоспоримое право превосходства над ней было настолько очевидным, что одного ее взгляда хватило бы, чтобы разорвать их в клочья. Звенящая тишина длилась ровно до того момента, пока дверь оставалась неподвижной; затем уж она должна была уловить в пульсирующем шуме приказ матери или сестры («Да ты до сердечного приступа меня доведешь! Что ты там крутишься? Нечего тебе здесь делать! Немедленно иди играть!»), который, быстро удаляясь, замирал, пока она бежала обратно к амбару или под навес, где чувствовало облегчение, приходившее на место беспокойства, от которого она, впрочем, не была способна избавиться до конца, поскольку в любой момент все могло начаться заново. Ни о каких играх речи, разумеется, не шло. И дело не в том, что у нее не было ни куклы, ни книжки со сказками, ни хотя бы стеклянного шарика, с помощью которых — на случай, если кто-нибудь чужой появится во дворе или кто-нибудь из домашних захочет проверить, чем это она там занимается — она могла бы притвориться, что играет. Но из-за того, что она постоянно находилась в состоянии напряженного ожидания, она не осмеливалась, да и не смогла бы увлечься какой-нибудь игрой. Не только потому, что минутная прихоть старшего брата безжалостно определяла, что и сколько времени из необходимых для игр вещей она могла держать у себя, а потому, что раз уж приходилось играть, то играла она из чувства самозащиты, чтобы удовлетворить ожидания матери и сестер, которые — это она хорошо усвоила — скорее стерпели бы, что она не привязана «к играм, приличествующим детям», чем вынесли бы позор, что («Как такое возможно!») она день за днем «точно больная стоит и следит за каждым нашим движением». Только здесь, наверху, в бывшей голубятне, она чувствовала себя в безопасности. Здесь не надо было играть, здесь не было двери, в которую «мог кто-нибудь войти» (ее давным-давно заколотил гвоздями отец, то была часть его плана, суть которого навсегда осталась тайной), не было окна, в которое «мог кто-нибудь заглянуть», а два отверстия для голубей она сама закрыла выдранными из журнала цветными фотографиями, прикрепив их канцелярскими кнопками, чтобы можно было «любоваться прекрасными видами»: морским берегом в лучах заходящего солнца и покрытой снегом вершиной горы с настороженным оленем на переднем плане… Конечно, теперь всему конец! Сквозь отверстие, за которым когда-то была лестница, ведущая на чердак, подул сквозняк, и она зябко вздрогнула. Пощупала свитер, но тот еще не высох. Поэтому она набросила на плечи самое ценное из своих сокровищ — найденную среди всякого хлама, сваленного в дальнем углу кухни, кружевную занавеску. Лучше уж так, чем спускаться обратно в дом за сухой одеждой, рискуя разбудить мать. А ведь еще день назад она и помыслить не могла о подобной безрассудной смелости: вчера, промокнув, она бы немедленно переоделась, ведь ей было известно, что если она заболеет и сляжет в постель, то ни мать, ни сестры не станут терпеть ее слез и стонов. Как она могла подозревать еще вчера утром, что нечто, подобное взрыву, от которого все вокруг не рушатся, а взлетает в воздух, очистит ее, и она уснет вечером с чувством «рождающей достоинство веры»? Еще несколько дней назад она заметила, что с ее братом что-то происходит: он по-иному держит ложку, по-иному закрывает за собой дверь, ночью внезапно просыпается на своей железной кровати рядом с ней, на кухне, а днем постоянно погружен в глубокую задумчивость. Вчера, после завтрака, он зашел в амбар, но вместо того, чтобы ухватить ее за волосы или — что было бы еще хуже — встать рядом с ней и молча стоять до тех пор, пока она не расплачется, он достал из кармана кусок «Балатона» и сунул ей в руку. Эштике не знала, что и думать, и она заподозрила неладное, когда днем Шани поделился с ней «самым фантастическим секретом, который когда-либо существовал». Она никогда бы не осмеливалась сомневаться в правдивости слов своего брата, куда более невероятным показалось ей то, что Шани именно ее посвятил в эту тайну, просил помощи именно у нее, у той, «на которую никогда нельзя положиться». Но надежда на то, что речь идет не об очередной ловушке, была сильнее страха, так что Эштике, даже не пытаясь выяснить, правда ли это (да и как могла она это сделать?), согласилась — без всяких условий. Конечно, нельзя сказать, что у нее имелся выбор. Шани в любом случае вырвал бы у нее согласие. Но сейчас в этом не было нужды: сразу же, как только он открыл Эштике тайну монетного дерева, он обрел ее безграничное доверие. Когда Шани, «наконец», закончил свой рассказ и внимательно поглядел на «тупую рожу» сестры, оценивая произведенный эффект, она едва не разрыдалась от внезапно обрушившегося на нее счастья, хотя и знала по горькому опыту, что в присутствии брата плакать нельзя. Она смущенно протянула деньги, которые копила с самой Пасхи «на случай крайней необходимости», ведь эта сумма, два форинта, доставшиеся ей от бывавших у них дома гостей, и так предназначалась Шани, и как ей сейчас было рассказать о том, как ей приходилось месяцами прятать и врать, чтобы все приготовления остались в тайне… Но брат ни о чем ее не спрашивал, к тому же радостное осознание того, что она теперь может принять участие в тайных приключениях сразу же смыла все следы смущения. Она так и не нашла объяснения тому, чем заслужила доверие в столь опасном предприятии и почему в первую очередь брат предупредил о возможности неудачи, не мог же он всерьез думать, что его сестра обладает необходимыми «смелостью, твердостью и волей к победе». Хотя: она не забывала, что за его грубостью, за его жестокими поступками, за всеми обидами, которые он ей нанес, там, в глубине, крылось объяснение — ведь порой, когда она болела, Шани позволял ей залезать к нему в постель и даже один раз стерпел, что она обняла его и так заснула. Годы назад, когда на похоронах отца, она поняла, что смерть, «единственный путь к ангелам», может произойти не только по воле Бога, но и по собственному выбору, и решила непременно выяснить, что нужно для этого сделать, брат просветил ее. В одиночку у нее ничего бы не вышло, без его помощи она бы так и блуждала в потемках, не зная, что именно требуется, разве что случайно сообразила бы — «крысиный яд тоже годится». И вчера, проснувшись на рассвете, она, наконец, победила в себе страх и решила больше не откладывать, потому что хотела не только представить, но и почувствовать, как поднимается ввысь, как некое притяжение уносит ее быстрее ветра, как все дальше и дальше становится земля, как уменьшаются внизу дома, деревья, поля, каналы, весь мир, и вот уже она стоит в Небесных Вратах среди пылающих красным огнем ангелов. И тут появился Шани с его секретом монетного дерева и оторвал ее от волшебного, хоть и страшного полета, и в сумерках они вместе — вместе! — отправились к каналу, брат весело насвистывал, вскинув на плечо лопату, она на шаг отставала от него, взволнованно прижимая к животу платок, в который было завязано все ее достояние. Шани с видом профессионала молча выкопал на берегу яму, и сначала чуть было не прогнал Эштике, но затем все же позволил самой положить туда деньги. Он сурово наказал: закопанные деньги надо поливать дважды в день, утром и вечером («Иначе они засохнут, и ничего не вырастет!»), а затем отослал ее домой с тем, чтобы «ровно через час» она вернулась с лейкой, пока сам он в полном одиночестве будет читать «необходимые заклинания». Эштике прилежно выполнило поручение. В ту ночь она беспокойно спала — во сне ее преследовали сорвавшиеся с привязи собаки — но утром, когда она увидела, что за окном льет дождь, то сгустившийся вокруг сумрак успокоил ее. Первым делом она, конечно же, отправилась на берег канала, чтобы убедиться, что волшебные семена получают достаточно воды. За обедом, пользуясь отсутствием матери (та прокутила всю ночь и до сих пор еще спала), Эштике шепотом сообщила Шани, что еще «ничего, совсем ничего не видно…», но тот объяснил: потребуется три, а скорее даже четыре дня, прежде чем первые ростки покажутся из земли, ни в коем случае не раньше, разумеется, при условии, что «грядку будут регулярно поливать…». «Поэтому, — продолжал он не терпящим возражений тоном, — не надо сидеть над ними все дни напролет. Так не годится… Достаточно, если ты будешь приходить туда утром и вечером. И все. Понимаешь, что я тебе говорю, дурашка?» Он усмехнулся и поспешил уйти из дому. Эштике же решила, что до темноты — если только не случиться чего-нибудь по-настоящему важного — останется на чердаке. «Пусть деньги пока подрастут!». Несколько раз она зажмуривала глаза, чтобы увидеть, как «растет монетное дерево», как все гуще становится листва, как все ниже сгибаются под тяжестью плодов золотые ветки, и как она, взяв с собой корзинку, наполнит ее доверху, вернется домой и гордо вывалит на стол… Как же тогда все вокруг удивятся! С того дня она будет спать в чистой комнате на просторной кровати под толстым пуховым одеялом, и не будет у нее других дел кроме как ходить каждое утро на берег канала и наполнять корзинку, а потом будут только танцы, и море какао, и слетят с небес ангелы и сядут на кухне вокруг стола, все до единого… Эштике сдвинула брови («Надо только подождать!») и, покачиваясь взад-вперед, замурлыкала под нос: