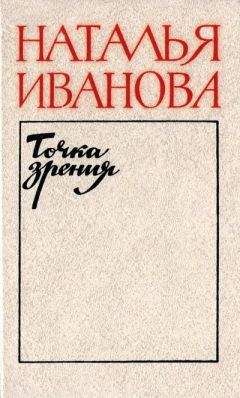СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая
Оскорбительно!
И наконец, что откликнулось ему, Корнилову, с одной из корявых страниц «Красного Аула», что было им прочтено с подлинным интересом, так это письмо следующего содержания:
«Уважаемый товарищ Редактор!
Прошу опубликовать мое заявление о нижеследующем.
Начиная с 19О5 года, я состоял и принимал самое активное участие в деятельности РСДРП (эсдеки) как в России, так и в заграничных ее секциях сначала как рядовой ее член, позже в руководстве этих секций.
В настоящее время весь ход внутренних и международных событий окончательно убедил меня в том, что единственно правильной политической платформой является платформа партии большевиков, которая последовательно развивает и укрепляет первую в мировой истории диктатуру пролетариата.
В силу этого я порываю с РСДРП (эсдеки), то есть выхожу из ее рядов.
Г. С. Казанцев».
А еще спустя некоторое время — когда ночь со вторника на среду 16 февраля уже как бы и потускнела и в памяти, и в воображении — Корнилов узнал, что Г. С. Казанцеву на Аульский вокзал был подан вагон, в вагон погружено все его имущество, небольшая библиотека и два токарных станка, по дереву и по металлу, и Казанцев Г. С. с семьей уехал на Украину.
Он был назначен директором крупного предприятия в Екатеринославе.
Итак?
Итак, в феврале и в начале марта два человека разыграли свои судьбы на глазах у Корнилова — один покончил с жизнью, другой начал жизнь заново.
Заново в красивом городе Екатеринославе, в бывшей какой-нибудь буржуазной квартире, в очень скромном, само собою разумеется, рабочем кабинетике, в котором спокойно и умно Георгий Сергеевич станет решать сложные вопросы восстановления и развития огромного промышленного предприятия. Нынче этакие предприятия принято называть комбинатами.
Ну, а вечерами, может быть, ночами даже великий умелец будет точить у себя на дому необыкновенные какие-нибудь детали, иногда по дереву будет работать, но чаще, конечно, по металлу... Ладно, если соседи не станут возражать, не потревожит их станочный гул. Здесь-то, в Ауле, Казанцев Г. С. соседей не тревожил — хоть и маленький, но отдельный был у него домик на углу улицы Интернациональной и переулка Острожного.
А где-то между этими двумя судьбами находилась третья судьба, его собственная, корниловская, которой до сих пор не было дано никакого решения, а был дан один только великий соблазн продолжения жизни, неизвестной, ни в чем не решенной.
Сама по себе жизнь как таковая, кажется, уже порядочное время была отчуждена от Корнилова, но тем сильнее становился соблазн ее продолжения.
Он отчетливо понимал и собою чувствовал все, что произошло с полковником Маховым и с непревзойденным умельцем Георгием Сергеевичем Казанцевым, но себя самого не понимал и не чувствовал, и вот ему казалось временами, что самого его уже нет, но его жизнь все еще есть, бродит среди деревянных улочек города Аула, существует в памяти каких-то людей... Которыми он когда-то командовал, которым подчинялся, которые были ему родственниками, которые... Бывало и совсем иначе, когда казалось, будто он сам существует, а жизни у него нет и нет. Да и была ли когда-нибудь? .. Разве только в детстве? Когда он сам для себя был богом, Колумбом, Лютером? Завидная была в то время дружба у этого человека с его жизнью!
Или у людей-умельцев, таких, как Казанцев Г. С., всегда так? Не только в детстве, а всегда? Такая вот дружба!
Завидная, но уж очень чужая, а чужая потому, что недоступна для Корнилова, утопия какая-то.
Завидная, но вот беда — не нынешняя, из других каких-то времен — прошлых, забытых или из бесконечно отдаленного будущего, это неизвестно...
Одним словом, жизнь не из мира сего.
Мир же сей являлся Корнилову такой необъятностью, таким разнообразием, такою сложностью, что терял даже свою предметность, становился смутным каким-то представлением.
Которым он, однако ж, дорожил больше, нежели чем другим.
Да, и вот еще что произошло в те же дни: Корнилов был снят с учета в ЧК! И не являлся больше по пятницам для отметки в зашнурованном журнале — свободным и неучетным стал он гражданином...
III. ГОД 1925-й. ЛЕТО
По своей сначала незаметной привычке, а потом уже и по умению и даже по напряженному желанию думать за других Корнилов легко мог представить себе «бывших» в нынешнем их существовании. Особенно в размышлениях о самих себе. Тем более что он ведь к «бывшим» принадлежал. Безоговорочно или с оговорками, но никуда от этой принадлежности не уйдешь, не расстанешься с нею...
Так вот, век, что ли, такой, но только люди кругом, кажется, по всей земле становились массами: пролетарская масса прежде всего, а далее крестьянская масса, беспартийная масса, мелкобуржуазная масса, интеллигенция «в своей собственной массе».
Зачем бы это? К чему бы? — размышляли «бывшие».
Но так или иначе «бывших» тоже не миновало, и вот они приобретали облик массовости, теряя характеры, биографии, специальности, навыки какого-либо дела или безделья.
Правда, наметанный глаз Корнилова легко мог отличить «бывшего» среди любого стечения народа, однако он же легко примечал, как быстро «бывшесть» размывается, как исчезает в ней существенное и главное, а продолжает играть только деталь какая-нибудь маломальская — то ли та манера, с которой человек говорит «здравствуйте!», то ли движение правой руки, готовой сбросить прочь головной убор в тот миг, как Богородская или еще какая-то церковь городка Аула вдруг возвестит о себе гулом колоколов... Будто бы готова к этому торжественно непроизвольному акту рука «бывшего», но, чтобы окончательно и бесповоротно его исполнить, это теперь уже редко-редко.
Да, не тот нынче пошел «бывший» — вырождение! Совсем-совсем не тот, который водился по Сибири, припомнить, так еще в 1921 году. И даже в 1922-м!
Хотя, с другой стороны, не столько внешней, сколько скрыто биологической, «бывшесть» — это ведь на всю жизнь! И на всю смерть.
Подумать только, Леночка Феодосьева — двадцать три годика, а «бывшая»! И не понарошку.
В шестнадцать Леночка получила огромное состояние и тут же, каким-то образом минуя назначенный ей опекунский совет, сумела пустить на ветер чуть ли не до последней копейки свои миллионы — оперетка и цирк были ее страстью. Вот туда, к циркачам и бравым тенорам, и уплыло! А дальше уже и общая судьбина — голодовка, эвакуация... Теперь Леночка аккуратненько отмечается в очереди на бирже труда — «чернорабочая».
Между прочим, самое обнадеживающее дело, и у Леночки во много раз больше шансов получить работу и даже пройти в члены профсоюза, чем, скажем, у бывшего главного юрисконсульта бывшей дирекции Русских юго-западных железных дорог, профессора Смелякова Мстислава Никодимовича.
К тому же у Леночки глазки, а что у Мстислава Никодимовича? Ничего нет, как не бывало.
Да что там Смеляков, что там Леночка, когда Евгения Ковалевская и та становится массой.
Казалось бы, куда, в какую такую сторону воплощение человеческого милосердия может измениться. Эту святость, эту отрешенность от самой себя разве можно потерять? Тем более можно ли приобрести.
Милосердие есть милосердие во все времена и при всех режимах, и вот как была Евгения фронтовой сестрой с сентября 1914 года, так и в 1925 году выхаживает сыпнотифозных и дизентерийных в больнице Аульского городского отдела народного здравоохранения. Как тогда смертельно раненные солдатики, отходя у нее на руках, благословляли: «Дай тебе бог здоровья, сестричка...» — так и теперь говорят то же самое.
Все изменилось, тысячи лет перевернуты вниз головой, века пошли прахом, а это нет, эти предсмертные слова русского человека неизменны...
И когда милосердная сестрица из года в год это слово принимает, значит, она себе уже не принадлежит, своего у нее нет, все свое материальное, духовное и любое другое отдано так далеко вперед, что и не видать, по какую пору... До такой степени высока святость, что человека, тем более женщину, различить нельзя — один только лик. Ну, и еще рабочие, изможденные, в прожилинах руки.
А потом что же оказалось?
У милосердной-то сестры, у Евгении, был припрятан, оказывается, собственный, никому не отданный крохотный такой кусочек сердца, а может быть, кровинка одна, и одной-то ею она и полюбила... Сначала, разумеется, полюбила ради спасения, то есть все из того же милосердия, безлико, бессловесно и бесполо, ну, а потом... Лиха беда — начало, после вся кровь ее взбурлила, и ни сыпнотифозные, ни дизентерийные этому бунту уже не могли стать помехой. Конечно, сыпнотифозники существуют, и умирают, и отходят в мир иной тоже по-прежнему, но помехой для ее любви быть уже не в силах.
По такому образцу Евгения Ковалевская тоже приобщилась к массе «бывших» и на хлебную свою пайку выменивала пудру, помаду, кофточку выменяла, помнится, маркизетовую, с черной горошинкой, но слишком для ее форм прозрачную, стала читать газеты и к прочему — массовому! — таким образом приобщаться.