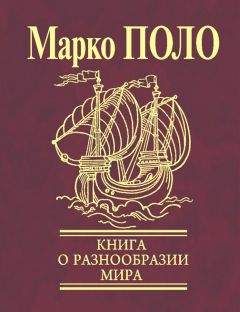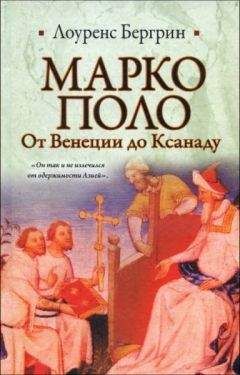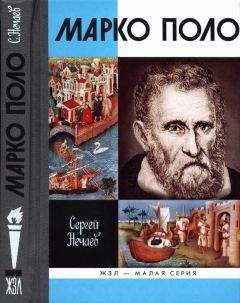Грэм Грин - Комедианты
— Тебе ведь очень нужен хороший повар? — спросила она.
— Ну да... Да. В общем, да.
— У нас замечательный повар, а он уходит. Я нарочно устроила скандал, и его уволили. Так что бери его себе. Если хочешь. — Кажется, она снова обиделась, что я молчу. — Ну, видишь, как я тебя люблю? Муж будет в бешенстве. Он говорит, что Андре — единственный повар в Порт-о-Пренсе, который умеет готовить настоящее суфле.
Я едва удержался, чтобы не спросить: «А как же Анхел? Он ведь тоже любит поесть?» Вместо этого я сказал:
— Ты мне сделала царский подарок. Теперь я богач.
И это было недалеко от истины: суфле «Трианона» гремело в Порт-о-Пренсе, пока не начался террор, не уехала американская миссия, не выслали британского посла, а нунций не остался в Риме; пока комендантский чае не создал между мной и Мартой преграду непреодолимей всякой ссоры, и пока, наконец, и я не улетел на последнем самолете «Дельта» в Новый Орлеан. Жозеф ушел едва живой после допроса у тонтон-макутов, и я перепугался. Я был уверен, что они добираются до меня. Наверно, толстяк Грасиа — глава тонтон-макутов — хочет заграбастать мой отель. Даже Пьер Малыш больше не заглядывал ко мне угоститься ромовым пуншем. Целые недели я проводил в обществе изувеченного Жозефа, повара, горничной и садовника. Гостиница нуждалась в ремонте и покраске, но какой толк было тратиться без всякой надежды на постояльцев. Только в номере-люкс «Джон Барримор» поддерживался порядок, словно в семейном склепе.
Теперь наша любовная связь уже не спасала нас от страха и скуки. Телефон перестал работать, он стоял у меня на столе как памятник лучших времен. С установлением комендантского часа мы не могли больше видеться ночью, а днем постоянно мешал Анхел. Мне казалось, что я спасаюсь не только от политики, но и от любви, когда, прождав десять часов в полицейском участке, где пронзительно воняло мочой, а полицейские с довольной ухмылкой возвращались из камер, я наконец получил выездную визу. Я помню там священника в белой сутане, он просидел весь день, читая свой требник, с железным, невозмутимым терпением. Его так и не вызвали. Над его головой на бурой стене были приколоты снимки мертвого мятежника Барбо и его товарищей, которых месяц назад расстреляли из пулемета в хижине на краю города. Когда полицейский сержант выдал в конце концов мне визу, сунув ее через стойку, как корку хлеба нищему, священнику сказали, что участок закрывается до утра. Он, конечно, назавтра пришел снова. В участке можно было читать требник не хуже, чем в другом месте, — все равно никто не осмеливался к нему подойти после того, как архиепископа выслали, а президента отлучили от церкви.
Как приятно покинуть этот город, подумал я, глядя на него сквозь вольную прозрачную голубизну с самолета, нырявшего в грозовые тучи, которые, как всегда, покрывали вершину Кенскоффа. Порт казался крошечным по сравнению со складчатой пустыней, расстилавшейся за ним, и высохшими, необжитыми горами, которые в мареве тянулись к Кап-Аитьену и доминиканской границе и напоминали сломанный хребет какого-то ископаемого зверя.
Я верил, что непременно найду какого-нибудь готового рискнуть человека, он купит мой отель, и я снова буду свободен и независим, как в тот день, когда приехал в Петионвиль и увидел мать в ее огромной бордельной кровати. «Как я счастлив, что уезжаю», — шептал я черным горам, крутившимся где-то внизу, и весело улыбался изящной американочке-стюардессе, которая подала мне виски, и пилоту, доложившему пассажирам о ходе самолета. Только через месяц я вдруг проснулся в своей нью-йоркской комнате с кондиционированным воздухом на Западной 44-й улице и почувствовал себя несчастным; мне приснилось сплетение рук и ног в машине «пежо» и статуя со взглядом, устремленным за море. Тогда я понял, что рано иди поздно, но я туда вернусь, пусть только кончится мое упрямство и не выгорит затея с продажей гостиницы, — потому что корка хлеба, съеденная в страхе, все же лучше, чем ничего.
4
Доктор Мажио долго сидел на корточках над телом бывшего министра. В тени, отбрасываемой моим фонарем, он был похож на колдуна, заклинающего смерть. Я не решался прервать колдовство, но, боясь, что в башне проснутся Смиты, все же нарушил молчание:
— Неужели они скажут, что это не было самоубийством?
— Они могут сказать что угодно, — ответил он. — Не стоит себя обманывать. — Доктор стал освобождать левый карман министра, тот лежал на правом боку. — А ведь он был лучше других, — сказал доктор, тщательно просматривая каждый клочок бумаги, близко поднося их к глазам в больших выпуклых очках, которые надевал только для чтения, словно кассир, проверяющий, не всучили ли ему фальшивую купюру. — Мы вместе проходили в Париже курс анатомии. Но в те дни даже Папа-Док был приличным человеком. Я помню Дювалье в двадцатые годы во время тифозной эпидемии...
— Чего вы ищете?
— Всего, что может навести на ваш след. Про этот остров очень точно сказано в католической молитве: «Дьявол — как лев рыкающий, ищет, кого бы ему пожрать».
— Вас он не пожрал.
— Дайте срок. — Он положил в карман записную книжку. — У нас сейчас нет времени в этом разбираться. — Он перевернул тело на другой бок. Его трудно было ворочать даже доктору Мажио. — Я рад, что ваша мать умерла вовремя. Ей и так досталось в жизни. Человеку на его век хватит одного Гитлера. — Мы разговаривали шепотом, чтобы не разбудить Смитов. — Заячья лапка, — сказал он. — На счастье. — И сунул ее обратно в карман. — А вот что-то тяжелое. — Он вынул мое медное пресс-папье в виде гроба с надписью: «R.I.P.» — Не подозревал, что у него было чувство юмора.
— Это мое. Видно, он взял его у меня в кабинете.
— Положите его обратно.
— Послать Жозефа за полицией?
— Ни в коем случае. Тело нельзя оставить здесь.
— Вряд ли они могут обвинить меня в том, что он покончил с собой.
— Они могут обвинить вас в том, что он спрятался в вашем доме.
— Почему он это сделал? Я его совсем не знал. Как-то раз видел на приеме, только и всего.
— Посольства тщательно охраняются. Он, видимо, верил в вашу английскую пословицу: «Дом англичанина — его крепость». Надеяться ему было не на что, и он искал спасения в пословице.
— Черт знает что — приезжаешь домой, и в первую же ночь такая напасть.
— Да, неприятно. Еще Чехов писал, что самоубийство — нежелательное явление.
Доктор Мажио поднялся и поглядел на труп. У цветных высоко развито умение вести себя как подобает в данных обстоятельствах; даже западное воспитание не сумело в них это вытравить — оно только видоизменило формы. И если прадед доктора Мажио громко причитал посреди дворика, где жили рабы, обратив лицо к бессловесным звездам, доктор Мажио произнес короткую, выразительную речь над покойником.
— Как бы ни был велик страх перед жизнью, самоубийство — все равно мужественный поступок, продуманное действие математически мыслящего человека. Самоубийца все рассчитал по законам теории вероятности; он знает, сколько шансов за то, что жить будет мучительнее, чем умереть. Математический расчет у него сильнее чувства самосохранения. Но представьте себе, как взывает к нему это чувство самосохранения в последнюю минуту, какие отнюдь не научные доводы оно ему подсказывает!
— Мне казалось, что вы, католик, должны бы осудить...
— Вы напрасно подходите к этому самоубийству с точки зрения религии. Религия тут ни при чем. Бедняга нарушал все божеские законы. Ел в пятницу скоромное. Его чувство самосохранения не выдвинуло в качестве довода против самоубийства божественную заповедь. — Он помолчал. — Вам придется спуститься и взять его за ноги. Надо его отсюда убрать.
Лекция была окончена, надгробное слово произнесено.
У меня стало легче на душе, когда я почувствовал себя в больших, сильных руках доктора Мажио. Я, словно больной, который хочет выздороветь, безропотно подчинялся строгому режиму, предписанному врачом. Мы вытащили министра социального благоденствия из бассейна и вынесли его на дорогу, где стояла машина доктора Мажио с выключенными фарами.
— Когда вы вернетесь, — сказал он, — пустите воду, надо смыть кровь.
— Я, конечно, пущу, только пойдет ли вода...
Мы посадили министра на заднее сиденье. В детективных романах труп легко выдают за пьяного, но этот мертвец был явно мертв; кровь, правда, уже перестала течь, но стоило заглянуть в машину, и сразу бросалась в глаза ужасная рана. К счастью, никто не отважился выйти ночью на дорогу; в этот час орудовали одни упыри или тонтон-макуты. Те-то уж наверняка не сидели дома: мы услышали шум их машины — никто другой не решился бы так поздно ездить — прежде, чем успели свернуть на шоссе. Мы погасили фары и стали ждать. Их машина медленно шла из столицы в гору; нам была слышна громкая перебранка, заглушавшая скрежет коробки скоростей. На слух машина была старая и вряд ли могла взять крутой подъем к Петионвилю. Что мы будем делать, если она выдохнется как раз у поворота к гостинице? Их люди, несмотря на поздний час, несомненно, заявятся к нам за помощью и бесплатной выпивкой. Нам показалось, что мы ждали очень долго, пока машина наконец не проехала мимо и шум не затих. Я спросил доктора: