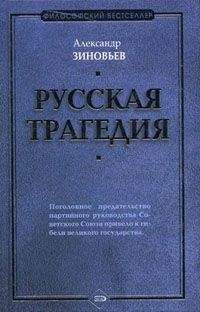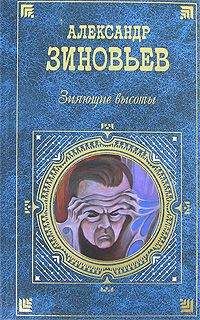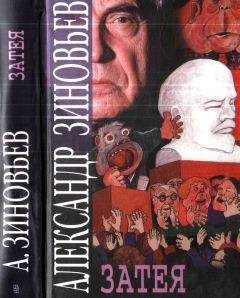Александр Зиновьев - Нашей юности полет
Но почему тебя эта проклятая сталинская эпоха волнует? Плюнь на нее! Она заслуживает забвения. Никаких уроков на будущее из нее все равно не извлечешь. Ты уцелел, и этого с тебя достаточно. Живи себе на здоровье. Наслаждайся солнцем. Наблюдай этих прожорливых голубей и озорных воробьев. И жди, когда судьба пошлет тебе маленькую радость. А она милостива к таким, как ты. Непременно что-нибудь. пошлет, как это она уже делала много раз ранее. Посчитай, сколько раз тебя должны были убить! А ты все еще жив.
Нам в спину целился в упор
Башкир заградотряд.
А перед нами — косогор.
Колючей проволоки ряд.
Один. Другой. Четвертый. Пятый.
Вот лейтенант вскочил: Ребята!
Вперед, ваш мать! За Родину!
За Сталина — уродину!
Пускай устроит он, вампир,
Из потрохов из наших пир.
Соседи слева, не прерывая основного занятия, шутят и хихикают. Он рассказывает «самые свежие» анекдоты про Ленина. Анекдоты действительно смешные, и мне стоит усилий, чтобы не рассмеяться. Интересно получается, с пьедестала сбросили Сталина, а смеются над Лениным. Почему?
И рассыпается все в прах. Становится напрасным страх. И историческая веха Становится предметом смеха.
Соседи справа не выдержали такого богохульства, сложили шахматы, ругаясь, ушли искать другую свободную скамейку. Слова и движения соседей слева утратили смысл социального протеста. Им стало скучно. Они тоже ушли. Я для них никакого интереса не представлял. Стоит ли выпендриваться перед каким-то неопрятным бухариком?
Хочу в ушедшие года.
Пусть будет нестерпимо плохо.
Твоим я буду навсегда,
Меня родившая эпоха.
Это «пусть будет» я произнес для красного словца, ибо мне сейчас плохо. Зверски болит голова со вчерашнего перепоя. Нужно во что бы то ни стало похмелиться. А денег нет. Их всегда нет. Но сейчас их нет в высшей степени. Никогда раньше не думал, что отсутствие чего-то может тоже различаться по степени, может уменьшаться или возрастать. Неужели все-таки та, моя эпоха навечно ушла в прошлое? Ушла серьезно, а не из каких-то коварных тактических соображений? А ведь это все было совсем недавно. Настолько недавно, что это вроде бы можно потрогать руками.
Разбиты в клочья «прохари».
От пота гимнастерки стлели.
Натерли плечи «винтари».
А мы упорно песню пели,
Какую знал тогда любой:
Идем в последний, смертный бой.
Вот сейчас я отчетливо вижу изрытую ухабами грязную дорогу, серое унылое небо серые, окаменевшие лица товарищей с раскрытыми ртами. Слышу хрипы той безобразной песни, которая должна была вдохновлять нас на подвиги.
Теперь уж позабылось, что
Для нас «последний» означало
Пути в Грядущее начало,
А не конец пути в Ничто.
И ведено последний бой
Нам выиграть ценой любой.
— Разобраться в нашей прошлой жизни трудно, — говорит случайно подвернувшийся собутыльник. — Может быть, вообще невозможно. Моя жизнь, например, до ужаса банальна с точки зрения событийности. Но стоит задуматься, как какой-нибудь пустяк обретает грандиозный исторический смысл, а то, что вроде бы должно быть важным, испаряется в ничто. В сорок первом мы с боями отступали от самой границы до Москвы, попадали в окружение, выходили из него… Вроде бы богатое событиями время. Но я о нем не могу наскрести воспоминаний даже на страничку. А вот об одной лишь ночи, в которой вроде бы не произошло почти ничего, могу думать и говорить часами. Вроде бы! У нас все превращается во «вроде бы» и в «как будто бы», поскольку у нас нет критериев различения важного и неважного. В ту ночь мы не обратили внимания на то, что пятьдесят человек сбежало к немцам. Зато пришли в дикое возбуждение, когда один парень сообщил, что у него кто-то украл сухарь. Особенно распинался по сему поводу Политрук. Он заклеймил этот поступок как пережиток капитализма в нашем сознании.
Смешной был этот Политрук. Совсем еще мальчишка. Бывший студент. Окончил шестимесячные курсы политруков. Попросился на фронт, причем на самый трудный участок и в самую трудную часть. Его и сунули к нам, к штрафникам. И сразу в бой, причем в самый нелепый, какой только можно было придумать. Когда нас немцы отрезали от своих и окружили, он спорол свои политруковские нашивки. Спорол, потому что немцы политруков в плен не брали: на месте расстреливали. А ведь он призывал нас драться до последней капли крови.
Эти сведения о Политруке мы узнали с его слов. И что здесь правда, а что — вранье, различить невозможно. Люди о себе вообще всегда врут, а в таких случаях — особенно. Но люди всегда врут на основе некоторой правды и в ее окружении. Майор, например, говорил о себе, что он — бывший майор, бывший командир полка — пожалел своих людей и не погнал их в бессмысленную атаку, был приговорен трибуналом к расстрелу, но расстрел заменили на десять лет штрафбата. Один парень из соседней роты говорил, однако, что Майор был всего лишь капитаном, что командовал лишь батальоном, что людей своих он не жалел, он просто не смог их поднять в атаку. Попробуй установи, чей рассказ тут ближе к истине. А парень по прозвищу Кулак был образцовым комсомольцем, был отличником боевой и политической подготовки. Погорел он вроде бы на пустяке: дал ребятам почитать письмо от матери, в котором она описывала безобразия в колхозе. Кто-то донес в Особый отдел, и ему дали пять лет штрафного за антисоветскую агитацию, причем как «затаившемуся кулаку». И он уже стал воспринимать себя как критически настроенного по отношению к советскому строю, в особенности к колхозам. Что тут правда и что плод воображения? Когда он попал в плен, ему просто в голову не пришло использовать этот факт своей биографии. Зато другой парень из нашего взвода по прозвищу Летчик сразу заявил о себе как о принципиальном противнике советской власти, особенно колхозов.
Этот Летчик присвоил себе то, что по праву должен был бы использовать Кулак. Что же получается? Если взять их двоих, то вранье Летчика уже не будет враньем. А если вообще взять большую массу людей и сумму того, что они рассказывают о себе, сравнить с суммой того, что они на самом деле творили, то будет иметь место точное соответствие сказанного и сделанного. Вот тебе и ключ к раскрытию «секрета» сталинизма. Никакого секрета нет и не было. «Секрет» — это теперь выдумали. Вот почему я не принимаю всю эту комедию разоблачительства и реабилитации.
Реабилитация! Словечко-то какое придумали. Не наше словечко, не русское. У нас если человека осудили, значит, он виноват. У нас невинно осужденных не бывает. Если человека осудили, то он виноват уже тем, что его осудили. А под каким соусом, т. е. с какой формулировкой, — дело второстепенное. Возможно, невинно осужденные и были где-то. Я лично за всю свою жизнь не встретил ни одного. Кулак, например, считал, что попал за дело: то письмо не надо было никому показывать. Его вина — разглашение общеизвестной тайны о положении в колхозах. Согласно генеральной линии партии в колхозах все должно быть прекрасно. Не имело значения то, что письмо было правдиво. Оно не соответствовало этой генеральной линии. А то, что он дал его читать другим, истолковывалось как подрыв этой линии. А то, что ему пришили кулацкую агитацию, роли не играло. Он даже не обратил на это внимания. И вообще никто не придавал этому значения. Имело значение одно: влип, получил пять лет, дешево отделался, если уцелеешь в бою и получишь ранение, то вернешься в училище героем, возможно — с «железкой». Обидно было только то, что он подвел мать. Ей тоже дали срок. Но учли чистосердечное раскаяние и многодетность, так что свой срок ей разрешили отбывать по месту жительства. Была такая форма — «принудиловка».
Как видишь, событий вроде с гулькин нос, а рассуждений — на целую книгу хватило бы. Если бы аналогичный поступок совершил я сам, я бы переживал его так же, как Кулак, и осудил бы его как преступление. У нас не было одной мерки для себя и другой для других. Мерки были универсальные.
Интересное это дело — сознание вины и невиновности. Это сейчас можно позволить себе иронизировать над тем, что кто-то был осужден, например, как японский шпион, хотя даже толком не знал, где находится Япония и ни разу в жизни не видал живого японца. С какой бы формулировкой человек ни был осужден, он не чувствовал себя невиновным и подыскивал для себя подходящую вину. Сознание и чувство невиновности появились лишь теперь, когда началась официальная реабилитация. Они появились как новая партийная установка — вот в чем дело! Это не есть какое-то общечеловеческое качество. Это есть лишь исторический зигзаг в генеральной линии партии. А раз такая установка вышла, все перевернулось: после этого я не встречал уже ни одного человека, осужденного за дело. Все стали невинно осужденными. И мне теперь уже кажется, что я тогда ни за что пострадал. А почему так кажется? Да потому, что то время ушло, и новая установка констатировала этот факт. Когда даже виновные стали ощущать себя невинно пострадавшими, это означало, что эпоха сталинизма окончилась.