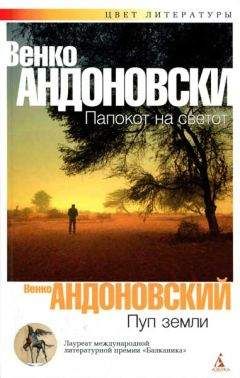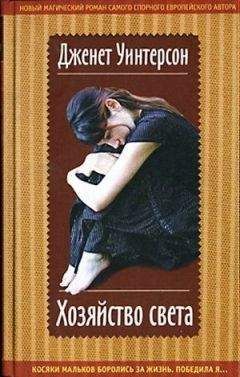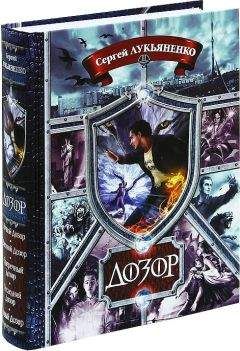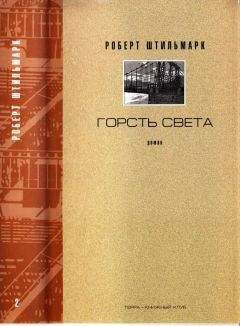Пуп света: (Роман в трёх шрифтах и одной рукописи света) - Андоновский Венко
— Ты хочешь сказать, что мы бессмертны и не знаем об этом? — осторожно спросила я, потому что всегда боялась показаться глупой перед ней.
— В каком-то смысле да. Кто знает, сколько раз я уже умирала раньше, и я сама понятия не имею, потому что я прохожу через параллельные вселенные, в которых я в континууме, подобно свету, существую в одно и то же время в каждой из них. Так что девушку (показывая в окне) из того дома, уверенную, что она жива, может быть уже оплакивают родители в какой-то другой, параллельной вселенной; поэтому и говорят, что больше всего от смерти страдает не умерший, а те, кто его окружают. Тот, кто умер, кто самым ужасным образом бессознательно сделал кого-то несчастным, продолжает играть роль под тем же именем и в том же теле, но в другой пьесе, в другом, параллельном театре.
Я смотрела на неё со страхом и благоговением, как часто глядела долгими ночами во время таких наших задушевных разговоров (да, для таких разговоров нет лучшего названия, чем «космические»), когда она приходила к самым удивительным умозаключениям о космосе и жизни, в те три благословенных года, когда её отец-генерал служил в маленьком городке, где жила я. Это длилось от наших пятнадцати до восемнадцати лет. Лела всегда была для меня богиней, приехавшей из большого города, на время спустившейся с небес к нам, непросвещённым и убогим, сделанным из грязи и соломы, она пришла специально ради меня, чтобы вытащить меня из болота, из провинциального свинарника, чтобы просветить меня, прежде чем уйти. Так и случилось: через три года, когда в стране начались беспорядки, дяде Милану дали новое назначение сюда, где я сейчас со своим чемоданом, куда уехало и моё божество, мой кумир, идол, по образу и подобию которого слепили и меня.
— Даже если это так, и человек может перемещаться из вселенной во вселенную, чтобы избежать смерти, то возникает большой вопрос: насколько тот, кто выжил, равен тому, кто умер — сказала я, сама удивляясь тому, что сказала. Видимо, те шесть лет, пока я её не видела, и у меня не было возможности пофилософствовать с ней, не уничтожили мою способность думать. Подбодрив себя этой мыслью, я добавила: «Изменница из варианта А была, скажем, простой официанткой в кафе, а в другой вселенной она становится известной актрисой».
Она подняла голову, обрадовалась и поцеловала меня в лоб, как целуют кого-то, кто предоставляет нам подтверждение собственного величия, и у меня сразу закружилась голова, потому что я всегда хотела, чтобы она меня ценила и хвалила, так что я чуть не выпала из плетёного кресла на кухне.
— Это хороший вопрос, большой вопрос! — восторженно воскликнула она, встав и расхаживая вокруг стола. А потом сказала: — Смотри. Аннушка в шесть лет. Аннушка в двенадцать лет. Аннушка в восемнадцать лет. Родственны ли они друг другу в мыслях и чувствах, даже в характере? Аннушка в шесть лижет леденец, у Аннушки в двенадцать начинает расти грудь, Аннушка в восемнадцать интересуется мальчиками, которые в свою очередь проявляют интерес к её уже сформировавшейся груди. Они имеют отношение друг к другу?
— Не имеют, — признала я.
— Тогда почему мы всех троих зовём одинаково и узнаём в них Аннушку? Должен быть какой-то континуум в видимом дисконтинууме.
Я хотела сказать ей, что, может, всё так, а может, и не так, хотела сказать ей, что мне не нужно такое бессмертие, когда я живу в качестве кого-то другого, не той, кем я была раньше, что в этом случае я воскресаю с другой идентичностью, не той, с которой умерла, но не сказала, потому что у меня было ощущение, что эти глупости всё-таки имеют под собой настоящий фундамент, реальную причину, и я только спросила:
— А что тебе с того, даже если это и так?
Я получила ответ, который подтвердил, что я была права, когда говорила, что она «тронулась».
— Может, в какой-то параллельной реальности он не пропал. Он пообещал малышу, что когда-нибудь вернётся.
Мне пришлось сказать ей:
— Лела, он не вернётся. Никогда. Ты сама знаешь.
И она, как будто только этого и ждала, быстро ответила:
— Но, может быть, я смогу войти в ту параллельную вселенную, где он не ушёл, чтобы никогда не возвращаться сюда, где он ушёл.
И тогда во мне как будто что-то взорвалось, как извержение вулкана. Я злилась оттого, что она, может быть, узнала; но злилась ещё и предполагая, что она ничего не знает, раз собирается искать того человека, своего мужа. Я сердито закричала:
— Лела, ты меня пугаешь! Перестань искать порталы во времени и пространстве, их не существует. Сделай что-нибудь! Заведи любовника! Выйди замуж ещё раз! Ткни себя кухонным ножом, чтобы потекла кровь, чтобы ты почувствовала, что ты живая! Роди ещё одного ребёнка! Только перестань читать! Ты уже не отличаешь книгу от реальности! И вообще, идея про параллельные вселенные не твоя, не новая и не оригинальная. Про это уже сто раз кино снимали, и у Стивена Хокинга про это есть!
Она просто посмотрела на меня и сказала:
— Я знаю, что в кино снимали. Я этого и боюсь. И эта идея, как и все высокие идеи, становится на плёнке трюком с малиновым соком. Вопрос в том, веришь ли ты в это, а не смотришь в кинотеатре, жуя попкорн, и забываешь сразу, как только закончится фильм, а он заканчивается, когда заканчивается попкорн.
Я встала из-за стола и решила лечь спать; я устала. Лела спросила:
— Завтра я иду на кладбище. Тебя разбудить?
— Да, — сказала я. — Хочу поставить свечку за дядю Милана.
Я и вправду вымоталась. Тем не менее я так и не заснула и всю ночь думала об её философии Воскресения. В ней было что-то апокрифическое. Получается, что, когда Иисус воскрес, он тоже стал кем-то другим? Умер как Богочеловек, а воскрес как просто человек? Или наоборот, умер как человек, а воскрес как Богочеловек? Значит ли это, что нельзя умереть и снова родиться? Я знаю людей, которые уезжают из городка (как и Лела), а потом возвращаются через много лет: они никогда не возвращаются прежними. Никто не может уехать куда-то и вернуться прежним. Мало того, что уезжает один, а возвращается другой, но тот, кто возвращается и думает, что вернулся таким же, не знает, что это кто-то другой внутри него думает, что он такой же. Это касается и предметов: уходят такими, а возвращаются другими. В тот раз, когда на следующее утро мы с Лелой нашли мой кожаный браслет в канаве у дороги, я была уверена, что это не тот, который Лела купила мне накануне вечером на ярмарке. Тот, который был до потери, до утраты, был ярче и красивее. А этот был попроще.
ЛЕЛА
Вместо того, чтобы успокоиться, я разволновалась с приездом Ани. Она вообще о нём не спрашивала, не сказала ни слова, даже из чистого любопытства. А если бы спросила, что было бы нормально, я бы ей сказала. И мне бы стало легче. Я бы сказала ей, что теперь знаю, что он идиот. Он приезжал в город месяц назад, но даже не пришел повидаться с ребёнком. Всю ночь просидел в кабаке с учителем физкультуры, а утром ушёл с какой-то девицей, которая пела там ночью. Об этом мне сказал учитель.
Если бы она спросила, я бы сказала ей, что, когда мы выходили из зала суда, глаза у него были красные, как у кобеля при спаривании, что он был весь в каком-то блудном угаре, что от него несло перегаром после вчерашнего. Он был весь всклокоченный, дёрганый и невменяемый и совершенно не сознавал этого своего состояния, поэтому у него был вид, как у сумасшедшего. Хотя он считал, что развод всё решит, он вдруг показался мне ещё более несчастным и растерянным, как смущённый подросток, в первый раз переспавший с женщиной, и потом глядящий такими же красными, разочарованными глазами, в которых читается: «И? Вот это вот и было то самое? И это всё?» Он стоял, как старшеклассник, в котором просто играют гормоны, который поддался самому промискуитетному заблуждению человечества, что секс — это любовь, и ещё что они не имеют одно к другому никакого отношения, что первое встречается часто, как бег трусцой, а второе редко, как живой динозавр; он стоял и остро нуждался в алиби, потому что держал в руке бумагу, в которой говорилось, что он разведён. И он произнёс алиби, которое, как и всякое алиби, трагикомично; он всё время после нашего знакомства повторял, что мол, святые отцы сказали: «Раз ты открываешь рот, чтобы оправдываться, значит ты виновен». Какие там святые отцы, каждый среднестатистический тупой гражданин США, каким был и он, приехавший оттуда после изучения информатики, надутый, как султан на белом коне: даже самый тупой американец, где бы его ни арестовали и за что бы его ни арестовали, хранит молчание, пока не придёт его адвокат. А тогда он сказал, как будто победил: «Так было надо, Лела. Мы просто не созданы друг для друга. Мы два разных мира. Даже наши воспоминания несовместимы».