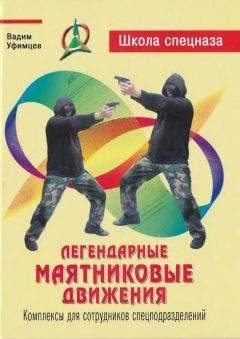Вторжение - Гритт Марго
– Хочешь, чтобы тебя выгнали? – опускаюсь на стул напротив.
От Мары пахнет потом и сигаретами.
– Сдашь меня?
– Не сдам, если… – выдерживаю паузу, чтобы Мара взглянула на меня.
– Если что?
Глаза, подведенные черным так густо, будто она гримировалась к роли Черного лебедя, припали к экрану, как теленок припадает к материнскому вымени.
– Если придумаешь мне прозвище.
– Что? – Мара наконец отрывается от телефона. Из-за близорукости взгляд кажется надменным.
– Подкинь им идею, – киваю в сторону двери, за которой остались и бесконечно длинные коридоры, и шарканье, и шепот. – Не хочу оказаться Железной Ногой или Терминатором…
– Да ну брось, никто так тебя не называет! – Мара возвращается к телефону.
– Они смеются.
– Привыкнут.
Глажу рукой бархатную обивку стула, нащупываю прожженный сигаретой островок, пытаюсь расковырять ногтем. Не привыкнут.
– Черт, репа через пять минут! – Экран гаснет, и лицо Мары растворяется в темноте.
Не хочу уходить. Мне нравится сидеть здесь, затягиваться пыльным воздухом, как крепкой сигаретой. Если расслабить глаза и долго смотреть в одну точку, нарисованный лес начинает вибрировать, как настоящий.
– Да не парься ты так, поставят тебя задник плечом подпирать, никто и не вспомнит, – Мара сползает с кровати. – Проси юбку подлиннее.
Не отвечаю.
Мара сует телефон в пасть Мышиного короля. Ничему из Нового мира не позволено войти в мир Старый.
Ничему, кроме меня.
Бледные, бескровные обломки из мрамора под простыней. Лия не понимала. Она поняла, что потеряла ноги, только когда в дверях палаты обрисовался контур инвалидного кресла.
Пространство сузилось до клочка авансцены, на который был направлен свет сразу всех прожекторов. Чучело диковинного зверя с черным провалом разинутой пасти и двумя металлическими колесами, выставленное на потеху публике.
Лия лежала на койке, отвернув голову к стене, и чувствовала, как обнаженную шею ласкает его горячее дыхание.
Она вновь и вновь проваливалась в тот день, когда бабушка впервые привела ее на балет. Единственный театр в городе закроется через два года, но пока в зрительном зале было довольно людно. Лия почему-то волновалась. В гудении толпы, в нестройных звуках, которые поднимались со дна оркестровой ямы, в трепете ветхого красного занавеса было что-то тревожное, что-то неотвратимое. В программке в бабушкиных руках Лия прочитала по слогам непонятное слово – и почувствовала во рту привкус, который бывает, когда быстро-быстро бежишь или просыпаешься среди ночи от страха.
Свет погас, музыка, тягучая, вязкая, заполнила пространство зала, и чья-то невидимая рука наконец подняла занавес. Разворот потрепанной книжки со сказками, которую бабушка читала Лии перед сном, вдруг ожил. Пряничные домики у подножия гор, темный лес и острые шпили башен. Лия не заметила, что деревья вырезаны из картона, а замок намалеван масляными красками поверх задника из другого спектакля. Из-за кулис выбежала стайка молоденьких «пейзанок» (бабушкино слово) с пластмассовыми корзинами пластмассового винограда и охотник, который держал перед собой муляж подбитой птицы, но Лии показалось, что с нее на сцену капает кровь.
Женщина слева от Лии все время отвлекалась на телефон, дергая заедавшую молнию сумочки и прикрывая ладонью яркий экран. Справа сидела бабушка и легонько пинала носком ботинка стоящее впереди кресло, как только мужчина в нем ронял лысую голову на грудь и по-лошадиному всхрапывал. Иногда бабушка наклонялась к Лии и шептала: «Ермолов, кажись, прибавил в весе, тяжело прыгает» или «Девочки сегодня как-то не синхронно…». Лия не слушала, она сползла на самый краешек, вцепившись в спинку кресла спереди побелевшими пальцами, так близко к волосам мужчины, который сидел рядом с лысым, что могла почувствовать запах кокосового шампуня и табака. Лия не сводила глаз со сцены, где среди толпы металась танцовщица в грубом крестьянском платье. Растрепанные волосы липли к мокрому лбу, она покачивалась на пуантах, сгибалась пополам, падала, закрывала лицо руками. Кричала, но крика ее не было слышно. Когда она шагнула к краю сцены, подставив разгоряченное лицо под софиты, Лия поняла, что смотрит на саму себя. Она поднимает ладонь, яркий свет бьет по глазам, зрительный зал сливается в сплошной черный провал разинутой пасти, но Лия знает, что где-то там с третьего ряда на нее сейчас смотрит маленькая девочка. Музыка – не музыка вовсе, а нутряной, животный рев – звучит громче, танцовщицы, стуча пуантами по зеркальному полу, смыкают круг за ее спиной. В руках факелы, и от жара грим плавится на лицах. Лия смотрит вниз, на ноги, с них стекает горячая густая смола, такая черная, что кажется, вместо ног у нее пустота. Лия трет кожу, но смола въедается в ладони, а танцовщицы все подступают, и языки пламени подбираются все ближе и ближе…
Лия кричала и просыпалась, сдергивала простыню, и ноги казались залитыми черной густой смолой. Она касалась рукой колена, но рука проваливалась в пустоту.
Никто из корды – кордебалета – не навестил ее, только Мара. Устроившись на стуле, она нагло, ничуть не стесняясь, вскинула длинные сильные ноги на прикроватный столик и массировала икры. С тяжелого армейского ботинка сползала синяя бахила. От нее, как всегда, пахло потом и сигаретами.
– Зимой ставим феминистический зомби-апокалипсис.
– Что?
Мара отработанным движением подтянула гетры.
– Ну этот, с мертвыми невестами, которые мужиков по ночам убивают.
– «Жизель»! – Лия улыбнулась впервые за долгое время.
Они с Марой не были подругами. В день, когда ее близкую подругу выгнали из корды, Лия долго бродила по коридорам театра, пока не обнаружила бывший художественный цех, где хранили старые декорации. Она сбежала туда снова, когда ее поставили на последней линии, «у воды», и снова, когда перед выходом во втором акте «Дон Кихота» ей позвонили и сказали, что бабушки больше нет. Мара тоже искала убежища. Телефоны отбирали на входе в театр. Подругу Лии застукали в туалете за перепиской. Мара пронесла второй и прятала в списанной бутафории. Между репетициями она валялась, уткнувшись в экран, на огромной кровати, оставшейся на складе после «Спящей красавицы», а Лия возвращалась туда каждый раз перед спектаклем, чтобы подышать запахом пыли, дерева и старости вместо успокоительного. Они почти не разговаривали.
Лия проговорила:
– «Жизель» была первым балетом, который я увидела.
– Когда я первый раз увидела балет, подумала, что артисты глухонемые.
Мара вытащила телефон из кармана шорт, мельком глянула на него, скорее по привычке, чем по необходимости, и засунула обратно.
– Скажи мне вот что, – она откинулась на спинку стула. – Какого черта эта дура защищает Альберта? Перец неплохо так устроился: притворился простолюдином, соблазнил крестьянку, довел до сердечного приступа и спокойненько вернулся к… как ее там, Матильде…
– Батильде.
– Да без разницы. Эти, значит, вилисы затанцовывают до смерти мужика, который правду рассказал, а за Альберта Жизель вдруг вступается. То есть ей же теперь из-за него по ночам на кладбище плясать! Ну не верю я в такую любовь. Хоть убей. Все-про-ща-ю-щую.
Лия смотрела на черные вязаные гетры, обтягивающие ноги Мары. Они были похожи на застывшую смолу.
– Наверное, мы и приходим в этот мир, чтобы научиться прощать, – тихо сказала Лия. – В первую очередь себя.
– Себя?
– Да, себя. За то, что мы люди, такие, какие есть. Не… Несовершенные. Если простим себя, научимся прощать и других за их несовершенства.
Мара закатила глаза.
– Ту мач.
Лия пожала плечами. Мара вытащила пачку сигарет.
– Черт, курить охота. Я пойду, ладно?
Остановилась в дверях, будто только сейчас вспомнила, зачем пришла. Зажала в зубах незажженную сигарету и кивнула на забинтованные култышки.
– Один плюс в твоем положении все-таки есть.
– Какой? – удивилась Лия.