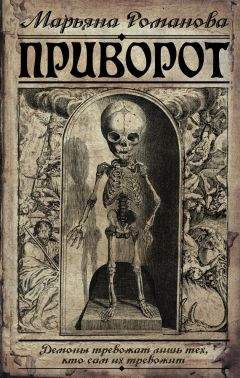Что видно отсюда - Леки Марьяна
Сельма наклонилась, вытянула вперед руки и вывалила содержимое своего пакета на землю. Она пыталась в наклоне не дать мне сползти с ее спины, а межпозвоночные хрящи Сельмы тоже пытались не сместиться, и даже теперь, с налившейся кровью головой и возмущенными межпозвоночными хрящами, Сельма все еще находила все это менее хлопотным, чем благодарить. Она бросала ломти колбасы снизу, не разгибаясь, через охотничий забор Пальма. Она бросала их собакам, пришедшим в неистовство.
Сельма крепко удерживала меня, когда снова распрямлялась, она стонала, а ее межпозвоночные хрящи многоголосо вторили ей. Она подошла к дому с задней стороны, там была дверь в подвал, и она оказалась незапертой.
Из подвала Сельма поднялась по лестнице в дом и пошла через кухню, пытаясь не замечать недоеденный ломоть хлеба, намазанный «Нутеллой», который все еще лежал на тарелке, прошла через гостиную, где пыталась не смотреть на детскую пижаму с Обеликсом из мультика, отброшенную на спинку дивана, и дошла до спальни.
Спальня у Пальма, похоже, годами не проветривалась. Огромный темный шкаф стоял там как часть мрачного ансамбля, рядом темная двуспальная кровать, один матрац лежал без простыни, пожелтевший, а на втором было смятое постельное белье, подушка в ногах. Было сумеречно. Сельма включила свет.
Пальм лежал на полу, на боку. Он спал. Голова его покоилась на школьном ранце Мартина.
Этот ранец нашли отлетевшим метров на сто от рельс. Он был почти цел, только ремень для правого плеча порвался.
Сельма села на кровать, на ее развороченную сторону. Она стянула меня со своей спины через плечо к себе на колени, теперь моя голова лежала у нее на сгибе локтя. Сельма чувствовала, как колотится ее сердце — неравномерно, она в эти дни то и дело чувствовала, как ее сердце делает шаг в сторону, словно оптик, когда его начинают донимать и шпынять внутренние голоса.
Она посмотрела на Пальма, тот спал, посмотрела на меня, я тоже спала. Два разбитых сердца и одно расстроенное, с перебоями, подумала Сельма. Потом она подумала про Железного Генриха из сказки и про его сердце, закованное в три железных обруча, и тогда она запрокинулась навзничь и упала на одеяло Пальма, пропахшее шнапсом и яростью, то был озлобленный, лающий запах.
Прямо над головой Сельмы висела лампа с плафоном, на дне плафона скопилось много мертвых мотыльков с их мертвыми мотыльковыми сердцами. Сельма закрыла глаза.
На веках у нее изнутри всплыло неподвижное остаточное изображение, в котором то, что на самом деле темно, кажется светлым, а то, что на самом деле светло, видится темным. Она видела Генриха, уходящего по улице, он снова и снова оборачивался, чтобы помахать ей, самый последний, самый-самый последний раз, Сельма видела на внутренней стороне своих век застывшее навек движение самого-самого последнего взмаха, замершую улыбку, а темные волосы Генриха были светлыми, а его светлые глаза очень темными.
Так Сельма лежала долго. Потом снова взгромоздила меня на плечо. Она немного пошатнулась, сердце сделало шаг вправо. Вставая, Сельма стянула за собой одеяло с кровати и тащила его за собой, пока оно не легло поверх Пальма и его ног. Тогда она его отпустила.
— Да отложи ты ее, — сказал оптик.
— Мне надо бы ее обследовать, — сказал мой отец.
— Ей надо бы что-нибудь съесть, — сказала моя мать.
— Ты уже совсем согнулась, — сказала Марлиз.
— Тебе надо бы что-нибудь съесть, — сказала Эльсбет.
Все что-нибудь говорили, кроме меня, Пальма и Аляски.
— Ее не получается отцепить, — отвечала Сельма, и:
— Да она проснется, — и:
— Она не такая уж и тяжелая.
Последнее было неправда, я была тяжелая как камень.
Сельма собиралась делать то, что делала всегда, потому что иначе возникала опасность уже никогда ничего не делать, и тогда, как у умершего почтальона на пенсии, кровь и рассудок свернутся комочками, и умрешь или сойдешь с ума, а Сельма сейчас не могла себе позволить ни того, ни другого.
Поскольку был четверг, а Сельма делала это каждый четверг, она включила свой сериал. Я спала у нее на коленях. В сериале в самом начале совершенно незнакомый мужчина в хорошем настроении вошел через портал господского дома в викторианском стиле, и Мелисса приветствовала его как Мэтью, хотя он не был Мэтью. Сельма придвинулась ближе к экрану и смотрела во все глаза, но этой действительно был не Мэтью, он был всего лишь отдаленно похож на него. По-видимому, тот актер, который всегда играл Мэтью, больше не хотел работать в этом сериале или его переманили на другой сериал, а может, он умер, и поэтому быстренько взяли кого-то похожего на Мэтью.
Сельма выключила телевизор и начала писать письмо в редакцию телевидения. Она писала, что так дело не пойдет. Она писала, что человека, который умер или его перевербовали, нельзя просто так заменить другим, который потом притворяется, будто всегда был Мэтью; такое дешевое решение нельзя себе позволять ни в деревне, ни в американских викторианских господских домах, это недостойно.
Сельма изложила все это на трех плотно исписанных страницах. Потом пришел оптик, он застал Сельму за этим письмом, она сидела за кухонным столом, а я лежала на животе поперек ее колен как одеяло. Сельма подняла голову, посмотрела на него, и оптик протянул ей носовой платок.
Поскольку Сельма как можно скорее хотела вернуться к тому, что делала всегда, она пошла в семь часов вечера прогуляться на ульхек.
— Идем, Аляска, — сказала она, но Аляска не хотела, Аляска тоже хотела в эти дни только одного: спать.
На ульхек оптик шел позади Сельмы — на тот случай, если у меня или у Сельмы сместятся позвонки. Оптик смотрел под ноги, у него болели глаза от слез, от слишком частых проверок поля зрения на приборе под названием «Периметр». Кроме того, он находил, что здесь по-прежнему не на что смотреть. Симфоническую красоту, которую оптик предлагал для любования нам с Мартином, куда-то убрали как театральный задник, отслуживший свое.
На третий вечер на ульхеке начался дождь. Оптик предусмотрительно захватил с собой плащ Сельмы и ее колпак от дождя: прозрачную шапочку с белыми крапинками. Он накинул плащ поверх меня на спине Сельмы, надел колпак на голову Сельмы, чтобы не вымокла ее прическа, и осторожно завязал завязочки под подбородком. Потом они пошли дальше, но недалеко, потому что Сельма резко остановилась, и оптик, который на это не рассчитывал, наткнулся на нее сзади. Сельма пошатнулась, оптик подхватил ее, стараясь стабилизировать собой Сельму и меня, как он делал это с подпиленной сваей охотничьей вышки.
— Честно говоря, она уже становится тяжеловата для меня, — сказала Сельма.
Она развернулась и пошла назад. Впервые со дня сотворения мира она не провела на ульхеке свои положенные полчаса. Оптик немного растерялся, когда Сельма пошла не вверх по склону к своему дому, а шла все дальше и дальше вниз, до самого магазина. Она направилась к сигаретному автомату.
— У тебя есть мелочь? — спросила она, сдвигая меня с плеча подальше на спину, так что моя голова свисала уже над ее попой.
Сельма раньше курила, когда Генрих был еще жив, на многих черно-белых снимках, где она была с ним, у обоих в уголке рта торчало по сигарете, а если нет, говорила Сельма, то лишь потому, что сигареты выпали: так сильно они хохотали. Сельма перестала курить, когда была беременна моим отцом, и стала одной из тех, кто укоризненно отмахивается от дыма и возмущенно кашляет, если кто-нибудь курит в четырех метрах от нее.
— Сельма, это действительно не повод снова начинать курить, — сказал оптик, и уже через четверть секунды после того, как эта фраза его покинула, он знал, что она была самой дурацкой за долгие годы, и это в то время, которое не скупилось на дурацкие фразы. Она была глупее, чем фраза про якобы время, которое якобы лечит, глупее, чем фраза о якобы неисповедимых путях Господних.
— Тогда подскажи мне лучший повод, — сказала Сельма, — назови мне хотя бы один повод в целом мире, который был бы лучше этого.