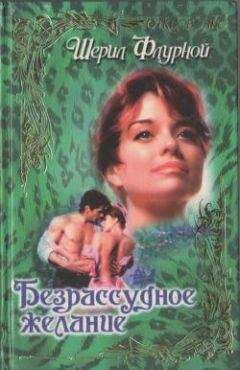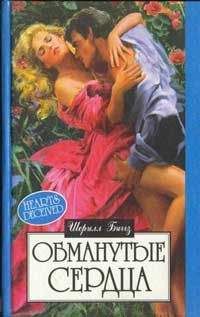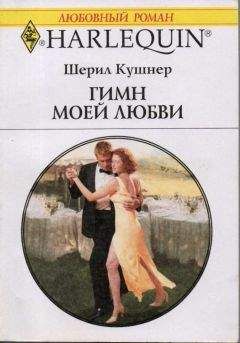Девушка без прошлого. История украденного детства - Даймонд Шерил
Когда он гладит меня по волосам и шепчет «Бхаджан…», его голос кажется сиплым и измученным. Я пытаюсь повернуться к нему, разглядеть его, глажу его покрытые веснушками плечи. Но он отворачивается, и я чувствую ногой что-то твердое. Я не знаю, что это, но все равно все понимаю.
Мне кажется, я теряю ощущение времени. Когда он прекращает, я чувствую, что он с трудом удерживается от чего-то. Какое-то время он смотрит в потолок, на светящиеся планеты, которые я туда наклеила. По его профилю мне становится ясно, что он хмурится. Он коротко сжимает мою руку и произносит слова, которые я не разбираю. Дверь тихо закрывается за ним.
Мне девять, ему девятнадцать, и я понимаю, что все непоправимо изменилось.
Кьяра возвращается поздно, двигается тихо, чтобы не разбудить меня. Я снова надела трусы и футболку и лежу на боку, притворяясь спящей. Мысли текут во всех направлениях, сталкиваясь друг с другом.
Снова я открываю глаза уже утром и чувствую себя так, будто вынырнула с большой глубины. Мама, Кьяра и Фрэнк в кухне, насыпают мюсли в тарелки. Фрэнк выглядит нормально. Значит, и я должна вести себя как обычно.
На мгновение наши глаза встречаются, и мы понимаем друг друга. Семья на краю пропасти. Если мороженое становится проблемой, то мне сложно представить, что может случиться, если произойдет что-то по-настоящему серьезное. Но ничего пока не произошло. Я должна в это поверить. Нужно повторять это снова и снова, пока оно не станет правдой.
Глава 13
Румыния /Каир, 10 лет
Мы уезжаем в два часа ночи, тихо прокравшись мимо двери Клауса.
Довольно сложно бесшумно стащить по узкой лестнице двадцать чемоданов. Третья и двенадцатая ступеньки скрипят, так что на них нельзя наступать. Нельзя даже задеть стену чемоданом. Рыбок больше нет: вечером я положила их в пакет и отнесла в зоомагазин, примерно такой же, как тот, где начались наши с ними отношения. Их выпустили в огромный аквариум, где они тут же смешались с другими. Я позволила себе бросить прощальный взгляд на Львиное сердце, который плыл за мной вдоль аквариума, как он всегда делал дома.
Мама звонит в такси и тихо говорит по-немецки, называя адрес в соседнем квартале.
— Едут? — спрашивает папа, красный от натуги.
— Да… эээ… им требуется ein paar minuten, и они встретят нас ит die ecke, — говорит она, поспешно проверяя все ящики. — Я же взяла… здесь же лежало…
— Прекрати мямлить и объясни нормально! — взрывается он.
Мне становится тяжело дышать. Папа очень прямолинеен, а мамин мозг всегда выбирает длинные извилистые пути к цели. Когда он злится, она страшно нервничает, и все это ведет к катастрофе.
Она сплетает пальцы и не может выдавить ни слова:
— Он… ну…
— Ein paar minuten? Um die ecke? — спрашиваю я, и она кивает. — Две минуты, папа. На углу…
— Что бы мы без тебя делали! Кто еще мог бы перевести с английского на английский речь твоей сумасшедшей матери. — Он отворачивается, берет очередной чемодан и открывает дверь.
Мама с облегчением смотрит на меня, но я чувствую, что начинаю злиться.
Мама никогда не «мямлит», даже сейчас. Дело в нем. Мне иногда трудно переключиться с одного языка на другой, а она говорит на шести. Папа недавно начал называть ее сумасшедшей, и я не знаю, до чего это дойдет.
Но в такси мы все от души смеемся, думая о Клаусе, который постучит в нашу дверь и обнаружит, что проблем у него больше нет.
А у нас? Следующая остановка — Румыния.
Я давно заметила, что в обнищавших странах всегда есть что-то, что компенсирует невыносимую бедность: теплый климат, красивые пейзажи, дружелюбные жители, древние памятники… Но та часть Румынии, где мы оказываемся через два дня, кажется бесконечно унылой и пустынной. Усталость и лишения оставили печать на всех лицах, молодых и старых. Везде стоят очереди, потому что всего не хватает: фруктов, овощей, мяса, надежды.
Папа, верный своей идее помочь мне стать лучшей из лучших, спланировал наше путешествие после того как списался с тренером румынской олимпийской сборной по гимнастике и прислал ему видео с соревнований. Приглашение приехать в тренировочный комплекс и попробовать свои силы совпало с бегством из Гейдельберга. Я и мечтать о таком не могла! Олимпийская команда! Но жизнь с отцом раз за разом показывает мне, что единственная причина, по которой что-то может быть недостижимо, — наша вера в эту недостижимость.
— Удели им немного времени, — солнечно улыбается он. — Все равно они ничего не умеют.
Как обычно, вся семья идет смотреть на мой экзамен. Ситуация с новым проектом стремительно развивается и напоминает снежный ком, который катится с горы и угрожает расплющить меня.
Мне десять лет. Что, если я испугаюсь или ошибусь?
Олимпийский тренировочный комплекс в городе Дева напоминает казармы из-за охраны и бесконечных проверок. Девочки, которые здесь тренируются, живут тут же в общежитиях, вдали от семей.
У входа в просторный зал нас встречает главный тренер. Я видела его и всю команду по телевизору, но при личной встрече он оказывается выше и внушительнее. Раздевшись до трико, я иду за ним. Руки у меня мокрые. Команда разминается. Я сразу узнаю девочек. Они на самом деле лучшие в мире. Здороваясь со мной, они застенчиво улыбаются и целуют меня в обе щеки. Ростом я почти не уступаю им, хотя всем девочкам по шестнадцать, не меньше. Замедленное развитие и прекращение роста — побочные эффекты серьезных тренировок.
Если главный тренер воспримет меня всерьез, мне придется доказывать, что я могу быть гимнасткой, несмотря на рост. Он просит меня показать вольную программу и вставляет в магнитофон мою кассету. Раздается предупреждающий сигнал — и звучит музыка Чайковского. Я сразу начинаю ощущать себя по-другому, почти свободной. Давление, ожидания, обратный отсчет времени до Олимпиады — все отступает. Некоторые говорят, что вольная программа по художественной гимнастике — одна из самых сложных вещей в спорте, и они правы. На одну минуту и двадцать девять секунд я перестаю быть собой. В двойном обратном сальто я взлетаю в воздух. Когда все начиналось, я танцевала и кувыркалась от радости, но сейчас я ищу чего-то другого. И я заметила, что на меня теперь смотрят более внимательно. Наверное, интереснее наблюдать за тем, кто стремится к забвению.
Когда музыка обрывается и я застываю в финальной позе, тренер достает кассету и вертит ее в руках.
— Ты много занималась танцами. — Лицо его непроницаемо.
Вечером мы сидим в пустом ресторане местного отеля. К нам подходит высокий унылый официант. Двигается он немного боком, как будто против сильного ветра.
— Добрый вечер.
— Здравствуйте, — улыбается папа. — Какие у вас есть горячие вегетарианские блюда?
Парень явно ошеломлен, но не сдается:
— У нас есть сыр с синей плесенью, хлеб, белый сыр, оранжевый сыр…
— А что-нибудь, кроме сыра? — Папа поднимает брови.
— Сыр с плесенью…
— Боже мой! Ладно, знаете что, положите сыр на хлеб и как следует разогрейте.
— Синий сыр, желтый…
— Все сразу! И погорячее! Ясно?
В этот момент мне больше всего на свете хочется умереть от смущения. Это так типично для отца: за минуту сорваться на другой конец земли и ожидать — нет, требовать — горячей еды, невзирая на экономическую ситуацию, политические волнения или наличие продуктов. Мы нервничаем, зная, что, если его что-то не устроит, будет скандал. Наконец приносят раскаленный сыр, дымящийся на тостах. Он жжет мне язык.
В конце недели папа все выклыдывает.
— Главный тренер сказал, что готов пригласить тебя для постоянных тренировок. — Наверное, я выгляжу испуганной, потому что он быстро добавляет: — Мы все поедем, само собой. Ты не будешь там жить.
Я польщена приглашением. Но мне страшновато от мысли о жутком тренировочном центре. Каждый раз, когда мы выходим в город, мне сложно не думать о нищете, с которой люди сталкиваются каждый день.