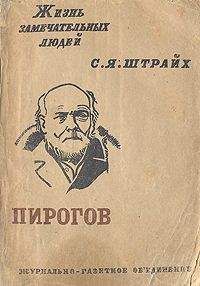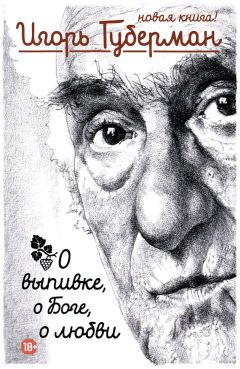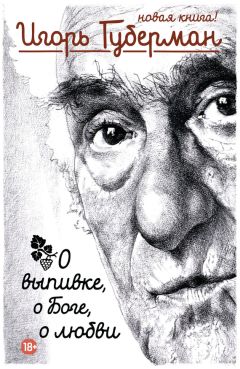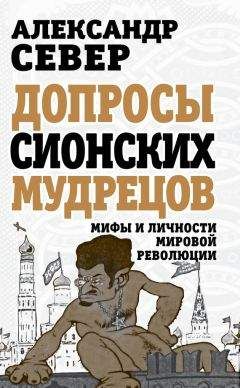Игорь Губерман - Путеводитель по стране сионских мудрецов
Надо сказать, что развитие искусств в Палестине происходило какими-то спазматическими толчками. Только было стал посаженный Борисом Шацем росток принимать какую-то форму, только начали его окучивать Рубин и Гутман со товарищи, как тут их оттеснили выходцы из Германии и давай ухаживать за растением на свой лад. Но недолго они праздновали победу.
Во-первых, на свет проклюнулись ханаанцы во главе с Данцингером, создавшим культовую израильскую скульптуру «Нимрод». Нам крайне по душе эти реакционные романтики, заявившие: «Двух тысяч лет галута как бы не было, и вообще этих лет не было. Мы продолжим с того места, где нас прервали». Что и сделали. Один из примеров — ревущий лев Мельникова на могиле Трумпельдора (о котором позже).
Во-вторых, появилась группа «Новые горизонты», декларирующая современные ценности так называемого лирического абстракционизма.
А что же было в это время с Зоарой? Перед началом Второй мировой войны Зоара уезжает в США. Именно там начинается ее творческая карьера. Первая выставка — в Музее Сан-Франциско (параллельно с выставкой Пикассо). Она первая начинает работать с пластиком. Выставляется в Музее Гугенхайма в Нью-Йорке.
И снова не перестаю ругать себя, что не записывал ее истории сразу, как только услышал. Я не помню, как звали баронессу — любовницу Гугенхайма, заправлявшую музеем по своему усмотрению, и как звали куратора-грека, который все работы, даже маленькие, вешал на высоте тридцати сантиметров от пола…
Дома у Зоары висели две работы Родко — она и Марк были очень дружны. «Как-то я прихожу к нему, — вспоминала Зоара, — а он сидит потухший, нечастный.
– Что с тобой, Марк?
– Мне предложили выставку в МОМО. (Это знаменитый нью-йоркский музей современного искусства, мечта любого художника.)
– Потрясающе! — завопила я.
– Что ты понимаешь, —уныло сказал Родко, — я теперь потеряю всех друзей…»
«Так оно и было», — грустно улыбнулась Зоара.
Надо сказать, что ревность у художников, даже больших,— не новость для мало-мальски осведомленного человека. Вот в качестве примера история, которая до сего дня также никогда не публиковалась.
Наш добрый знакомый Эфраим Ильин (о нем речь впереди) был дружен с известным художником Мане Кацем (его музей в Хайфе заслуживает вашего внимания) и мэром Хайфы Абу Хуши. Большую часть времени проводивший во Франции, Кац имел обыкновение прибывать в Хайфу пароходом из Марселя, а Абу Хуши с Ильиным поутру выходили на катере в море, поднимались на пароход и проводили пару часов до входа корабля в порт за завтраком.
Вот сидят они за столом, пьют шампанское, втягивают в ноздри свежий морской воздух, и тут сопровождавший их журналист обращается к Мане Кацу:
– Скажите, мэтр, что вы думаете о Марке Шагале?
– Шагал, — отвечает Кац, — большой художник, замечательный колорист, огромный мастер.
– Интересно, — говорит журналист, поглядывая на Каца, — тут пару недель назад я спросил Шагала, что он думает о Мане Каце, и представьте себе, он сказал, что Мане Кац — полное дерьмо, ноль без палочки, бездарь и шарлатан.
– Это нормально, — улыбнулся Кац. — Видите ли, мы, художники, никогда не говорим правду друг о друге…
Вот какая история. А Зоара рассказала нам еще одну, не менее интересную.
В конце сороковых годов у Бецалеля, ее брата, была выставка в Париже. И пришел на эту выставку критик (имени его мы, естественно, не помним), и не простой, а самый главный, определяющий судьбы. Результатом его благосклонной рецензии были договоры с лучшими галереями, выставки в лучших музеях. И вот, представьте, подходит этот критик к Бецалелю и просто рассыпается в комплиментах. Каждый нормальный человек на месте Бецалеля Шаца с достоинством сказал бы лаконичное «мерси», но это нормальный, воспитанный человек. Увы, воспитанность и хорошие манеры никогда (да и сегодня тоже) не были свойственны уроженцам Израиля. Поэтому вместо благодарственных слов критик услышал неожиданное:
– Ну, раз вам так это нравится, напишите.
От растерянности критик признался:
– Не могу.
И думал, что на этом все кончится, но ошибся.
– И почему это вы не можете? — последовал немедленный вопрос.
Потерявший всякую ориентацию, шокированный таким варварским напором критик пролепетал:
— Видите ли, Пикассо заплатил мне за то, чтобы я в этом году ни о ком ничего не писал…
Вот так.
Вернемся, однако, в Израиль. После провозглашения независимости Зоара прибывает в страну. Не одна — с мужем. Его звали Пако, и он тоже был скульптором высокого класса. А еще он отлично играл на гитаре, а также имел склонность к крепким напиткам и вольному образу жизни. Он был отменный мужик — Пако, муж моей Зоары… Роман с черноволосой красоткой монашенкой, которая из-за него бросила монастырь, переполнил чашу терпения Зоары, и она (дело было в Калифорнии) уехала в Нью-Йорк, где через два месяца получила телеграмму за подписью монашенки: «Срочно приезжай».
–Забери его, — заявила при встрече разгневанная красотка.
– В чем дело? — осведомилась Зоара. — Что-нибудь не так?
– Все так. Все хорошо, — сжала губы брюнетка. — Вот только каждый раз, напиваясь, он говорит о тебе.
«И я вернулась», — сказала Зоара, глядя мне в глаза затуманенным поволокой памяти взглядом, и улыбнулась только ей присущей улыбкой, в которой было все самое главное на свете: легкость, мудрость, печаль.
В 1952 году Зоара получила Национальную премию Израиля. А потом Пако заболел — как водится, рак, и она преданно и верно за ним ухаживала до самой его безвременной смерти. За эти годы возник цикл полных мрачной красоты и силы графических работ, странная перекличка с вещами Филонова, которые Зоаре были не известны. Как тут не вспомнить притчу рабби Нахмана из Брацлава! В одном месте в одно время человек задает вопрос. В другом месте в другое время другой человек задает вопрос. И ни первый ни второй не знают, что вопрос второго — это ответ на вопрос первого.
Тем временем на смену «новым горизонтам» явилось «бедное» искусство — минималисты, такие как Грос, Арох, а потом концептуалисты и так далее. Надо сказать, что кризис шестидесятых—семидесятых годов, породивший отказ от традиционных материалов и ходов, пришелся как нельзя более на руку израильским художникам, не отягощенным традициями и как бы висевшим в воздухе. Именно тогда их имена стали пользоваться широким международным признанием. Здесь в первую очередь следует упомянуть Дани Каравана, большого мастера того, что можно назвать ландшафтной скульптурой. Его работы — чистая, безупречная, благородная, умная пластика — находятся в Японии и Италии, Франции и Испании, Голландии и Германии. Он — лауреат Императорской премии Японии. ЮНЕСКО наградило его медалями Миро и Пикассо, и много разных других премий и наград имеет этот невысокий симпатичный человек.