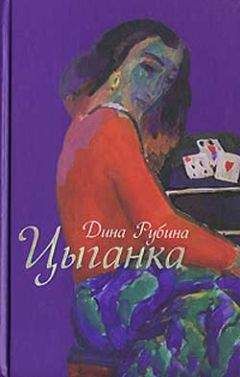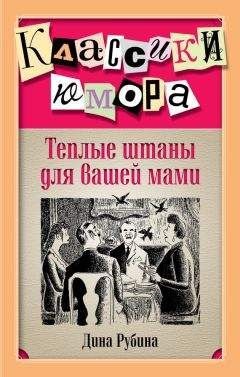Дина Рубина - Гладь озера в пасмурной мгле (сборник)
Пыхнуло в тишине рыже-фиолетовым, и сразу грохнуло и раскололось вдребезги небо, извергая холодные осколки дождя...
Вера заорала от восторга, Стасик обнял ее и набросил свою куртку ей на голову, как на клетку с попугаем, чтобы тот умолк. Но Вера куртку скинула, и жадно смотрела, как в дымном фиолетовом теле тучи преломляются желтым солнечные лучи, как, ежесекундно вспыхивая, сменяют один другого оптические эффекты.
Стояла, вцепившись в локоть Стасика, чувствуя терпкий страх вперемешку с желанием вспыхнуть мгновенно и чисто и развеяться пеплом над горами...
...Потом, когда туча унеслась, подтерев за собой оранжевое от заката, глянцевое небо, они долго стояли, совершенно мокрые, в тающей, шуршащей каплями, тишине, среди густого послегрозового запаха трав, наблюдая, как валится за рощу миндальных деревьев воспаленная миндалина солнца...
Вера обернулась и вдруг увидела выгнутую ледяным парусом, ополоснутую марганцевым уходящим светом, гору, которая прежде была под облачным колпаком...
Она стояла и глядела на этот, взрезавший небо, алый парус ее сна...
– Вон там... – сказала она, указывая рукой, – внизу, на склоне холма... поле с высокими-высокими травами... Помнишь, я говорила тебе?
Стасик удивленно смотрел на лунатическое выражение ее глаз...
– Давно, в детстве... Как сон... Голый всадник на потном коне... въезжал с одного края поля и выезжал на другом, разворачивал коня и снова въезжал, как в море... Волны над головой... Желтый платок на зеленых волнах... – Она морщилась, силясь вытянуть реальность за кончик хоть какой-нибудь приметы. – Или мне снилось?
– Так вот оно что... – медленно проговорил он. – Вот он откуда взялся, твой кентавр...
Обнял, тихо, томительно ощупывая губами ее, влажные от дождя, губы... И долго они стояли так, озябшие, среди мокрой травы, осторожно грея друг друга губами, словно вызывая, продлевая удивленную нежность того вечера, случившегося всего три месяца назад...
– Знаешь, что ты видела? – спросил он, наконец оторвавшись от нее. И в глазах его было то самое, любимое ею, выражение веселого любопытства:
– Охоту за гашишем...
Тем вечером их подобрал на шоссе и пустил переночевать к себе – он жил в соседнем кишлаке, – молодой уйгур на побитом и замызганном «москвиче».
Накормил их пылающей перцем жирной шурпой, выдал целый тюк пахнущих дневным солнцем курпачей, – и всю ночь, на балхане его дома, где на расстеленных мешках вдоль стен пестрым ковром лежали сухофрукты, они неслись обоюдослиянным кентавром, совсем близко к громадным дрожащим звездам, перегоняя какое-нибудь созвездие Стрельца...
***...Все остальное – мерзлое помещение морга, где не раз они оба бывали на занятиях в «анатомичке», – столы, и то, что было на столах... не имело к Стасику никакого отношения.
И позже Вера никогда об этом не вспоминала. Это отпало, отвалилось от нее, как корочка-нарост на зажившей ране. Чем больше месяцев и лет проходило после его смерти, тем радостней и живее было думать о Стасике – о сильном, очень сильном человеке на костылях.
Самое удивительное, что в снах он всегда приходил к ней на здоровых ногах. И в ответ на ее радостный вскрик уверял, что совсем уже выздоровел, а как же, тут все здоровые, не то, что вы там... Откидывал полу халата, демонстрируя сильные ноги спортсмена... – «Потрогай мускулы!...» – весело приглашал он... Сердце ее колотилось, она тянула руку туда, где... теплая, теплая атласная кожа наливалась округлым пульсирующим восторгом... – она взлетала всадницей, и они мчались, мчались, загоняя друг друга, пока спазм мучительного наслаждения не будил ее...
И тогда до утра она сидела на кухне, выкуривая одну за другой полпачки сигарет, думая о нем и твердо зная, что он продолжает любить ее там, где все мы здоровые и веселые...
***Тем первым вечером без Стаса Лёня сидел недолго, больше молчал, рывком поднимался с табурета и молча мерил длинными своими ногами комнату.
– А это чьи работы? – вдруг спросил он, как очнулся, перед двумя небольшими натюрмортами: две картонки были записаны утром и днем, когда свет по-разному перебирал складки платка на спинке стула и, как опытный сладострастник, ласкал керамический чайник то справа, то слева...
– Мои... – отозвалась она...
– Ваши?! – быстро обернулся на нее, озадаченно долго смотрел на вихрастую «дикую» стрижку, на клетчатую, мешком висящую на ее тощих плечах, рубаху Стасика... С нажимом переспросил: – Ваши?
И она поняла его вопрос, и совсем не обиделась. Просто объяснила:
– Стасик никогда не лезет в чужой холст...
Уходя, он не обещал прийти снова. Но этим вечером Вере уже не было так тяжко: словно вены отворили, давая выход скорбной бурой крови...
Лёня появился на другой день. Стоял на пороге, улыбаясь, придерживая за отворотом пиджака что-то копошащееся.
– Вера, извините, ради бога, если некстати. Вот, подобрал тут одно погибающее насекомое...
Достал и протянул на ладони дрожащего слепого пискуна-котенка.
– Ой, комарик какой, – удивилась Вера. – Что с ним делать?
– Для начала – подарить жизнь...
Разыскали в доме пипетку, подогрели молока. Котенок цеплялся когтями за пальцы, разевал крошечную ребристо-розовую пасть и, похоже, не умолял о жизни, а требовал ее. Выяснилось, что у него сломана лапа. Сделали шину из обломка карандаша, расщепленного вдоль. Ковыляя, он чем-то напоминал Стасика.
Когда же, через пару недель, продрал глаза, то в полной мере обнаружил свой высокомерный нрав. Вера назвала его Сократусом.
– Вот Сократ утверждал... ты знаешь, кто такой Сократ, Веруня?
– Ну... он... был грек? И его свои же отравили этой... цукатой?
– Ци-ку-той, Веруня, цикутой... Там, с Сократом, было так... я тебе сначала о нем, потом – почему и за что его помнят...
– Дядь Ми-и-иш...
– Нет, ты послушай, Верунь, в жизни пригодится! Пригодилось...
Кот быстро вырос в сытого холеного барина, пепельного, с платиновыми зализами на брюхе, с холодными, как два топаза, глазами. Судя по всему, считал, что все ему обязаны своим существованием. Когда в дом заходили незнакомые люди, обыскивал дамские сумочки, брошенные на пол в коридоре, инспектировал мужские ботинки, – вообще, проверял народ на вшивость... Лёня в то время был уже в доме своим.
9
«... – Вот ты говоришь – послевоенный Ташкент... Кто что, а я первым делом вспоминаю тележки с газированной водой: примитивные тачки на колесах, с небольшим навесом... они спасали в летнее время от жары и жажды тысячи ташкентцев... Там еще была забавная система мытья стаканов: легкий поворот рычага, перевернутый стакан полощется под сильной струей воды... Затем в него из стеклянного цилиндра цедят немного сиропу, того, что ты выбираешь, и сразу вслед – просто чистая вода под газом... И это так весело шипело, вскипало к краям... Помнишь эти тачки? В детстве ты выбирала всегда „крюшон“ – темно-красный сироп...