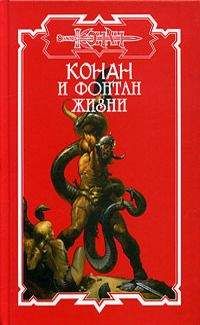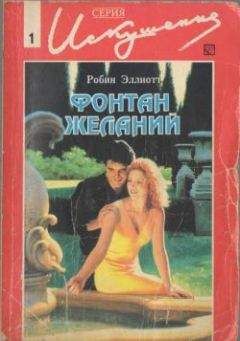Катрин Панколь - Желтоглазые крокодилы
Поскольку беседа не клеилась, Гортензии самой надоело сидеть, и она легко позволила Кармен себя увести.
В гостиной Жозефина пила кофе и молила Бога, чтобы вопросы не обрушились на нее градом. Она начала было беседу с Филиппом, но у него зазвонил мобильник, он извинился, сказал, что важный звонок, очень жаль… И с этими словами скрылся у себя в кабинете.
Шеф читал деловую газету, сидя за низким столиком. Мадам Мать и Ирис обсуждали занавески в спальне. Они жестами звали Жозефину присоединиться к ним, но она предпочла составить компанию Марселю Гробзу.
— Как жизнь, крошка Жози, все в ажуре?
У него была странная манера речи: он употреблял всеми забытые выражения. С ним как будто попадаешь в шестидесятые или семидесятые годы, ведь больше никто из знакомых Жозефины не говорил «туши свет» или «обалдемон».
— Можно и так сказать, Шеф.
Он ласково подмигнул ей, вновь уткнулся в газету, но поскольку Жозефина не ушла, понял, что следует дальше поддерживать беседу.
— Твой муж все дома сидит?
Жозефина кивнула.
— Сейчас стало трудно. Надо поднапрячься, потерпеть…
— Он ищет, ищет… Смотрит объявления по утрам.
— Ну если он ничего не найдет, он всегда может прийти ко мне. Я его куда-нибудь пристрою.
— Шеф, ты такой милый, но…
— Но нужно, чтоб он маленько научился кланяться. Уж больно он гордый, твой муж. А в наши дни гордым быть не получается. Надо стелиться перед начальством. Стелиться и повторять: «Спасибо, хозяин». Даже толстяку Марселю приходится на брюхе ползать, чтоб найти новые рынки, новые идеи, и он каждый раз благодарит Бога, когда удается подписать новый контракт.
Он похлопал себя по пузу.
— Скажи это своему Антуану. Достоинство в наши дни — непозволительная роскошь. А у него на такую роскошь нет средств! Видишь ли, крошка Жози, мне легче, я ведь из грязи вылез, и мне очень уж неохота возвращаться туда. Есть такая сенегальская пословица: «Если ты не знаешь, куда идти, остановись и посмотри, откуда ты пришел». Я пришел из нищеты, значит…
Жозефина чуть было не проболталась Марселю, что она и сама сейчас на грани нищеты.
— Но на самом деле, Жози, по здравому размышлению… Если бы я кого и взял на работу из нашей семьи, то только тебя. Потому как ты упорная. А муж твой, кажется, рвать себе задницу не намерен. Нет, ты не подумай! — Он довольно расхохотался. — Я его не в дворники зову…
— Я знаю, Шеф… знаю.
Она погладила его по руке, благодарно улыбнулась. Он смутился, оборвал смех, откашлялся и вновь погрузился в чтение газеты.
Она посидела немного рядом с ним, надеясь еще поболтать, чтоб ускользнуть таким образом от любопытства матери и сестры, но Марсель, похоже, не собирался продолжать разговор. С Шефом всегда так. Минут пять поговорит, и считает уже, что отделался и можно заняться чем-нибудь другим. Не любит он эти семейные сборища. Как и Антуан. Мужчинам тут нечего делать, им позволено только присутствовать, для декорации. Чувствуется, что вся власть в руках женщин. Хотя и не всех. Я вот, например, исключение. Она почувствовала себя одинокой. Взглянула на Ирис — та сидела рядом с матерью, поигрывая длинными сережками, которые только что сняла, качая ногой с накрашенными ногтями, не менее ухоженными, чем на руках. Какая грация! Невозможно поверить, что мы с этим сияющим, восхитительным, изысканным созданием принадлежим к одному и тому же полу. Надо бы придумать подвиды в классификации людей по полам: А, В, С и D… Ирис будет из категории А, а я из D.
Жозефина знала, что начисто лишена той чувственной, спокойной грации, которой был окутан каждый жест сестры. Всякий раз, когда она пробовала ей подражать, эксперимент оканчивался унижением. Однажды она купила зеленые босоножки из крокодиловой кожи, увидев такие же накануне на Ирис, и сновала по квартире туда-сюда в надежде, что Антуан заметит обновку. А он заявил: «Ну и походочка у тебя. Ты с этими штуками на ногах похожа на трансвестита!» Так прелестные босоножки стали «штуками», а она — трансвеститом… Жозефина встала и отошла к окну, подальше от матери и сестры. Она смотрела на ветви деревьев на площади Ла Мюэтт, покачивавшиеся в мутном вечернем воздухе. Громоздкие каменные особняки розовели в лучах закатного солнца, кованные решетки ворот подчеркивали благосостояние, над нежно-зелеными, кипенно-белыми и бледно-желтыми садами поднималась легкая дымка. Все здесь дышало богатством и красотой, богатством, будто освободившимся от материальных оков, чтоб стать воздушным, приятным и ненавязчивым. Шеф богатый, но тяжелый. Ирис богатая и легкая. Деньги подарили ей невероятную непринужденность. Мадам Мать напрасно считает себя ровней дочери, она была и останется выскочкой, парвеню. У нее слишком гладкий пучок, слишком толстый слой помады, слишком лакированная сумочка, и зачем она ее все время держит в руках? Бедняцкая привычка: боится, что украдут. Даже обедает с сумочкой на коленях. Ей удалось одурачить Шефа, но других, тех, кого ей хотелось, она не одурачила, вот и пришлось ей довольствоваться Шефом, который не умеет одеваться, ковыряет в носу и сидит, раздвинув ноги. Она это понимает и потому злится на него. Он напоминает ей о ее несовершенстве и ограниченности. А Ирис удивительно раскованна, есть в ней секрет, некая тайная уверенность в себе, непринужденность, которую невозможно объяснить словами. Она изначально стоит выше простых смертных и представляет собой редкостный, уникальный экземпляр. Ирис смогла переродиться и изменить мир вокруг себя.
Оттого-то Антуан терялся и потел: он чувствовал ту незримую грань, что отделяет его от Филиппа и Ирис. Видел тонкую разницу, не имеющую отношения ни к полу, ни к сословию, ни к образованию, которая отличает настоящую элегантность от натужной элегантности выскочки. Антуан ощущал себя увальнем, тюфяком.
Первый раз Антуан начал обливаться потом в три ручья именно здесь, на этом балконе. Был майский вечер, они вместе любовались деревьями на авеню Рафаэль, и он, вероятно, ощутил себя таким несуразным, таким беспомощным перед величием деревьев, великолепием зданий, перед этими шикарными занавесками, что его внутренний термостат сломался, и он потек. Они заперлись в ванной и придумали объяснение: слишком резко открыл кран, так что залил и рубашку, и пиджак. В первый раз все поверили — а дальше как? Причем она еще больше полюбила его за это и пожалела: ведь и сама она здесь точно так же потела, вот только не явно, а в глубине души…
Тишину нарушал разве что шелест страниц: Шеф листал газету. «Что там поделывает моя курочка? — думал он с нежностью. — Интересно, в какой она позе сейчас: лежит небось на диване в гостиной, попкой кверху и смотрит какую-нибудь идиотскую комедию, ей такие нравятся. Или валяется в кровати, как пухлый блинчик, в той самой кровати, где мы сегодня с ней кувыркались… Так, стоп, прекрати немедленно! У меня встал, сейчас все заметят!» По приказу Зубочистки он надел облегающие серые брюки из тонкого габардина, которые лишь подчеркивали несвоевременную эрекцию. Это было так забавно, что он еле сдерживал смех и аж подскочил, когда к нему наклонилась Кармен: